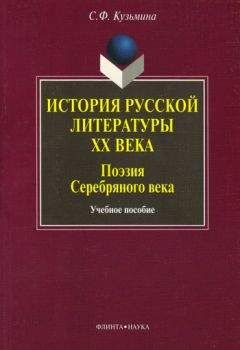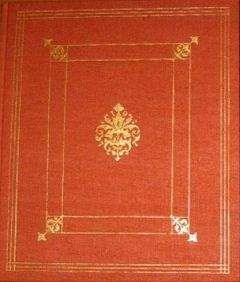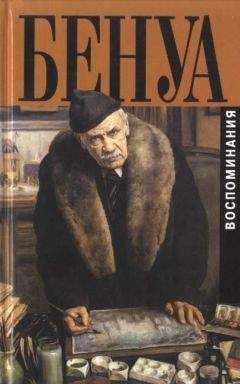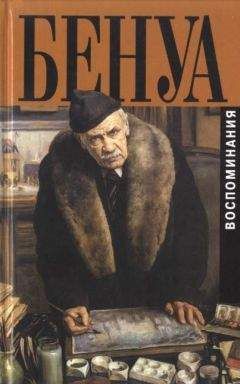Яновский В. Поля Елисейские. СПб., 1993.
Творчество Владислава Фелициановича Ходасевича (1886, Москва – 1939, Бийянкур, близ Парижа), поэта, литературного критика, переводчика, публициста, мемуариста, не относится ни к символизму, ни к акмеизму, но по поэтике и строгости отношения к слову оно может быть соотнесено с принципами акмеизма. Наиболее значительным из напечатанных в России является сборник «Путем зерна» (1920), в котором звучит нота надежды на возрождение России после ее гибели в эпоху революции. Эти надежды были внутренним основанием для общественной работы. В 1918 г. Ходасевич был одним из организаторов московской Книжной лавки писателей, куда входили также М. Осоргин и М. Алданов. В 1920-е гг. преподавал в студии Пролеткульта, был членом Петроградского союза поэтов. Первые сборники стихотворений «Молодость» (1908), «Счастливый домик» (1914) обратили на себя внимание Н. Гумилева.
В 1922 г. вместе с Н. Берберовой через Ригу эмигрировал в Берлин, где издал сборник стихов «Тяжелая лира» (1923). Был член правления берлинского Дома искусств, соучредителем Клуба писателей (1922—23), членом берлинского Союза писателей и журналистов. С ноября 1923 г. по март 1924 г. находился в Чехословакии, затем посетил Италию, где активно общался с М. Горьким, Францию, Англию, Ирландию.
После переезда в Париж в 1925 г. издал свое «Собрание стихов» под символическим названием «Европейская ночь» (1927). До 1925 г. сохранял советское гражданство.
Поэтический стиль Ходасевича, строгий, взыскательный и подчас аскетический, тяготеет к классической линии русской поэзии «любомудров», в частности Е. Баратынского и А. Пушкина. Это было отмечено и современниками. Так, А. Белый в своем отзыве на сборник Ходасевича «Тяжелая лира» писал, что этот сборник «встречаем как яркий, прекрасный подарок, как если бы нам подавалась тетрадка неизвестных еще стихов Баратынского, Тютчева. Лира поэта, согласная с лирою классиков, живописует сознание, восстающее в духе» [310]. В. Набоков назвал Ходасевича «гордостью русской поэзии». В романе «Дар» В. Набоков создал образ поэта Кончеева, в котором современники увидели черты Вл. Ходасевича.
В сборнике «Европейская ночь» выражено эмигрантское самочувствие, переданы отчужденность, трагизм внекорневого бытия, попытки преодолеть которые через проникновение в чужие жизни ведут к еще большему надлому (стихотворения «Слепой», «Берлинское», «С берлинской улицы»). Само название сборника указывает на безысходность существования, географический эпитет «европейская» усугубляет тотальность власти мрака, тьмы, «ночи». Поэт создает стихотворения-эмблемы, зрительный образ которых графичен, абсурден и трагичен:
Колышется его просторный
Пиджак – и, подавляя стон,
Под европейской ночью черной
Заламывает руки он.
Традиционная для русской классической литературы православная религиозность преломляется через сверхзаданность миссии поэта:
Жив Бог! Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.
Пасу послушливое стало
Я процветающим жезлом.
Ключи таинственного сада
Звонят на поясе моем.
Я – чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий, —
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я – не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон…
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!
Он вводит в поэзию момент диалога с самим собой, достигающего трагической высоты в стихотворении «Перед зеркалом» (Париж, 1924) с эпиграфом на итальянском языке из Данте «Nel mezzo del cammina di nostra vita» – «На середине пути нашей жизни».
Я, я, я. Что за дикое слово?
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Да. Меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Вергилия нет за плечами, —
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла.
Образы Вергилия, спутника-провожатого, и пантеры взяты из «Божественной комедии» Алигьери Данте. Ходасевич в своем стихотворении создает огромное поле ассоциативных связей. Одной из них может быть и незаконченный отрывок из А. Пушкина:
Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий [311].
Дантовский контекст сопрягается с огромным библейским контекстом, новозаветной традицией, христианским образом человеческой души, ищущей спасения, убегающей от духовной гибели и преследуемой грехом. Чудесное видение о спасении души, преследуемой сладострастием в образе пантеры, гордостью и насилием в образе льва, алчностью в образе волчицы (у Данте в «Божественной комедии»), углубляет звучание строк Ходасевича, который пишет, однако, не о грехе, убивающем личность (Пушкин), а о внеличностных силах истории, которые делают человека беглецом, неприкаянным жильцом подвалов и чердаков в чужих домах. Поэт с пиететом относился к А. Пушкину и его традиции, которой он проверял на прочность и собственный поэтический мир, и устремления поэзии русского зарубежья.
В сборнике «Европейская ночь» пушкинская линия прослеживается на уровне ясности слога и отношения к человеку как Божьему созданию. Ставя предельные вопросы, Ходасевич не находил возможности гармоничного синтеза духовного и материального. Смысловое пространство сборника «Европейская ночь» дисгармонично: детали внешнего «мертвого» и безразличного мира корреспондируют внутренней неустроенности, потерянности. В стихотворениях «Берлинское», «Окна во двор», «Слепой» передается острое чувство внешнего уродства, страх от присутствия демонов, существ «с песьими головами». Картины наплывают друг на друга, вызывая «дикий голос катастроф», «железный скрежет какафонических миров», смертельно опасных для живого и ничем не защищенного человека. Поэтика переживает внутреннее напряжение между эстетической программой, образцом и иделом которой является классическая традиция, и воссоздаваемым хаосом жизни, требующим адекватных изобразительных средств. Ходасевич это противоречие уравновешивает строгостью ритма, выписанностью образов, предметностью поэтической детали. Его «содержательная поэтика» [312], по наблюдению В. Вейдле, нацелена на воссоздание темы человеческой судьбы в обездуховленном мире, для чего требовалось «вывихивать» строки, обращаться к опыту художественной прозы Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Кафки. Сам Ходасевич гордился решением этой двойственной задачи:
И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.
Ходасевич пробовал свои литературные силы в области художественной прозы. Им написаны «сантиментальная сказка» (жанровое определение автора) «Иоганн Вейс и его подруга», рассказы «Заговорщики», «Помпейский ужас», «Бельфаст» и др. Ходасевич воплотил в своем творчестве самоощущение русского поэта-эмигранта, израненную душу которого заполняют острые впечатления бытия, но ничего не дают для чувства счастья и полноты жизни. В передаче конкретных реалий Ходасевич прибегает к сюрреалистическому приему отчетливости деталей при фантастическом искажении общей пространственной перспективы, что создает эффект самоотчуждения и трагизма жизни. Принципы такой художественной пластики очевидны в стихотворении «Берлинское» (1922):
Что ж? От озноба и простуды —
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка, и звон посуды,
И лиловатый полумрак.
А там, за толстым и огромным
Отполированным столом,
Как бы в аквариуме темном,
В аквариуме голубом —
Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся ленивых рыб.
И там, скользя в ночную гнилость,
На толще чуждого стекла
В вагонных окнах отразилась
Поверхность моего стола, —
И, проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращением узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.
Ходасевич стал одним из ведущих литературных критиков первой волны русской эмиграции. В 1927–1939 гг. он возглавлял литературно-критический отдел газеты «Возрождение». Он писал об И. Анненском, О. Мандельштаме, М. Цветаевой, З. Гиппиус, С. Есенине, Б. Пастернаке, поэзии И. Бунина. В статье «Литература в изгнании» пришел к выводам, что «русская литература разделена надвое. Обе ее половины еще живут, подвергаясь мучительствам, разнородным по форме и по причинам, но одинаковым по последствиям» [313], эти последствия отрицательно сказываются и на художественном уровне произведений, и на читательском вкусе. Как критик Ходасевич делал все возможное, чтобы напоминать о духовной и творческой миссии русской литературы в изгнании, был сторонником ясности художественной мысли, стремления в искусстве к совершенству. Как организатор культурной жизни русской диаспоры Ходасевич приложил много усилий для создания приемлемых условий жизни и творчества молодому поколению эмиграции. Литературоведческие работы «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924 г.), «О Пушкине» (1937) соприкасаются с литературно-биографическим жанром его романа «Державин» (1931). Он создал книгу «Пушкин», написанную в жанре биографического романа-исследования (главы «Начало жизни», «Дядюшка-литератор», «Молодость»),