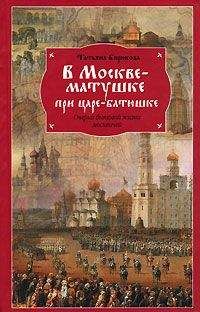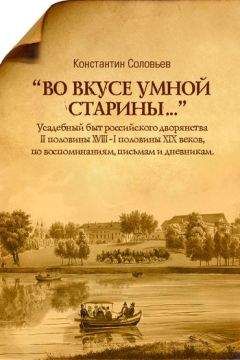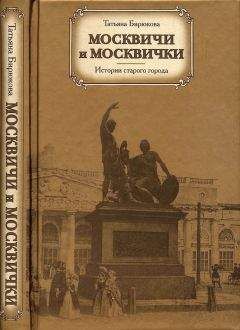О целях своей затеи сам Владимир Дуров говорил: «Я хлопочу сейчас в городской управе о том, чтобы в мое распоряжение предоставили часть Екатерининского парка, примыкающего к моему владению. Там я думаю устроить нечто вроде увеселительного сада для народных, главным образом детских, гуляний. Без намека на какой-либо шантан и тому подобное. Все увеселения будут исключительно научно-образовательного характера. Я хочу познакомить публику с психологией животных, с которой она знакома так мало. Я буду демонстрировать моих животных. На экране будут перед публикой проходить те приемы и способы, при посредстве которых я заставляю животных слушаться и исполнять все мои желания. Ни одного удара, ни одного резкого жеста… Все сделано лаской и хорошим обращением с ними… Все это не может не иметь хорошего воспитательного значения для нашей публики, привыкшей с детства мучить животных и издеваться над ними. Я всегда учил людей любви и всегда буду учить, в противовес тем, кто учит их ненависти и, если в этом отношении моя задача будет выполнена, хотя бы отчасти, я буду счастлив».
Устраивая в Москве свой музей, клоун Дуров не думал покидать сцену. Он предполагал по-прежнему разъезжать по России, «смешить и учить людей».
Приблизительно четыре десятилетия назад по радио часто звучала песня со словами: «Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живет». Русские, будучи в командировках за границей, скучали по родине. Такое чувство свойственно многим людям планеты. Не исключением были и американцы. Их московская дореволюционная колония ежегодно, с усердным постоянством, праздновала 22 июня (4 июля по европейскому календарю) свой Национальный фестиваль — основание республики Северо-Американских Соединенных Штатов и День Декларации освобождения от английской зависимости.
122-я годовщина фестиваля пришлась на 1898 год. Праздничный день решено было отметить в саду и ресторане господина Дипмана в Царицыне. На подписной обед и летнюю прогулку с «экскурсией участников с их дамами» в окрестностях Царицына собрались все американцы, жившие в Москве.
Во время продолжительного обеда игралась спокойная оркестровая музыка. Меню составляли только американские национальные блюда, в том числе суп из устриц, «минс-пая», сладкий мясной пирог, прочие разности. За обедом произносились тосты, патриотические спичи. Поднимали бокалы «За республику!», «За президента Мак-Кинлея!», «За нацию!». Также были провозглашены тосты за чрезвычайного посла Американской республики при Санкт-Петербургском дворе — господина Гичкока и за американского консула в Москве господина Томаса Смита. Последний самолично присутствовал здесь же за столом.
Собравшиеся спели несколько национальных песен, «Сонгс» и американский гимн. Потом было катанье на лодках на прудах. А вечером над Царицыном зажгли фейерверк.
Обед и вечер в знаменательный для американской нации день памяти, их «4 июля 1776 года», прошли весьма оживленно.
Газеты и журналы ежегодно на Святой неделе давали зазывные объявления о балаганах под Новинским и на Лубянской площади. В этих районах Москвы москвичи весьма душевно веселились.
Но не на праздник Пасхи, а обыкновенным морозным февральским утром 1861 года на Лубянской площади собралась однажды огромная толпа. Здесь произошло событие, о котором потом было много разговоров. Тогда по сигналам тревоги было поднято несколько частей московских пожарных. Горело недалеко от Кремля за Китайгородской стеной. Хотя в ранний час прохожим следовало торопиться по своим обыкновенным делам, зеваки из них поспешили вослед за пожарными. Сердобольные граждане причитали: «Батюшки! Бедненькие, ой-ой-ой! Бедные обезьянки!»
Непонятно? Да, Москва — не джунгли и не банановая столица. Правильно, но это на взгляд обывателя через десятилетия. А вот тогда представления в прямом и переносном смыслах были другие: на Лубянской площади жили и замечательно работали экзотические для Москвы животные. Здесь располагались цирк и частные городские зверинцы.
И в тот зимний день театр обезьян господина Казанова, построенный из обычных досок, горел сильнейшим огнем. Все смотрели на это «последнее представление»…
Глазели себе, поглядывали… Вдруг в народе кто-то в ужасе закричал. Потом разнеслась молва, будто из горевшего театра выскочили тигр и медведь, которые пустились прочь от огня прямехонько по московским мостовым.
Что тут началось! Врассыпную, все побросав, бросились уже не звери, а люди, наблюдавшие за пожаром. Впрочем, в публике обнаружилось несколько смелых горожан, которые не испугались клыков полосатого и косолапого, а терпеливо-молчаливо остались на месте и дождались, пока от деревянного театрального здания остались одни только тлеющие угольки.
Слухи заставили москвичей на ближайшие дни поверить в то, что где-то в подворотне сидит жуткая парочка: мечтает о добыче страшный тигр, а косматый голодный медведь поджидает свои жертвы.
В дело вмешались и взялись его расследовать дотошные корреспонденты. Они выяснили: у Казанова в театре, кроме обезьян, еще работали послушные лошадки и дрессированные собачки. Ни тигра, ни медведя, ни других каких-либо хищников там и в помине не было.
Москвичи были благодарны журналистам за добрую правду. Им спокойнее стало выходить из своих домов. А вот грусть о судьбе любимого театра осталась надолго…
По части «цирка зверей» спустя три десятка лет хозяйственная комиссия по улучшению работы Зоологического сада в начале 1898 года заключила договор с владельцем другого Зоологического сада — в Гамбурге, господином Карлом Гагенбеком, о том, что ежегодно летом в Москву для забавы публики будут привозиться из Германии группы различных дрессированных животных.
Первая такая группа прибыла в Москву в апреле того же года. В ней были пять нубийских львов, три бенгальских тигра, полярный медведь, черный медведь, леопард и три ульмских дога.
Работа труппы дрессировщиков у Гагенбека считалась оригинальной и совершенно новой. Труппа славилась в мире тем, что в нее брали лишь молодых диких животных, которых дрессировали ласкою. В ней не применялись орудия практиковавшейся повсеместно в мире дрессировки: хлысты, револьверы, каленое железо и т. п. К примеру, дрессировщик Рихард Лист повелевал животными только словами. Он обращался с ними, как с домашними кошками и собаками.
Эта труппа до приезда в Россию производила ошеломляющее впечатление абсолютно на всех зрителей, выступая на выставках Чикаго и Берлина, в Акклиматизационном саду Парижа.
Подобные гастроли в нашем Зоосаде очень понравились москвичам, и было решено проводить здесь временные показы разных животных и из других городов планеты.
Старинное село Воробьевы горы, или Воробьево, находилось за московской городской Калужской заставой. Если приходилось ехать сухопутьем, то — в трех верстах от Москвы. Однако летом было другое, более удобное и короткое сообщение с Воробьевыми горами, а именно на лодках через Москву-реку, так как село расположилось над самым обрывом к реке. Обрыв был так крут и высок, что на него взбирались только пешие, а конной дороги отсюда на гору не существовало.
Местность у села, все плоскогорье от самой реки были покрыты мелколесьем, которое окружало поселок зелено-бархатным поясом. Селение утопало в садах.
Сады были наполнены вишневыми деревьями и малинником, составлявшими для местных крестьян прибыльную статью доходов. Вишня, известная под названием «Воробьевская», сбывалась на московских рынках в большом количестве и по высоким ценам.
Летними днями многие москвичи охотно гуляли на Воробьевых горах и посещали крестьянские сады. Сюда, прямо на лоне тенистой природы, им подавали самовары, крынки с молоком, яйца. Каждый посетитель мог с кустарников рвать себе к чаю ягод. За все это садовладельцам перепадало немало денег — тем более когда с ценами они не церемонились и буквально «драли» с посетителей столько, сколько считали нужным.
Прогулка на Воробьевых горах была большим удовольствием для москвичей среднего класса. Особенно с тех пор, как от Каменного моста до пристани «Воробьевы горы» и обратно, только для прогуливавшихся, стали плавать крошечные пароходики, что для не избалованных в этом отношении горожан стало большой радостью. Для людей же, меньше склонных к поэтическому восприятию прибрежных красот, существовало другое сообщение с местом гулянья: от Калужской заставы до Воробьевых гор ходил по рельсам паровой трамвай.
Гулявшие в своем большинстве сосредоточивались у самого берега вблизи села. Здесь тоже подавались самовары, торговали палатки со всякой снедью и лакомствами, продавали вино и пиво. Разгулье на Воробьевых горах шло широко и весело. На многочисленных полянках московский народ пел, играл на гармошках, плясал.