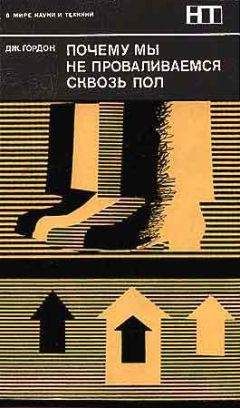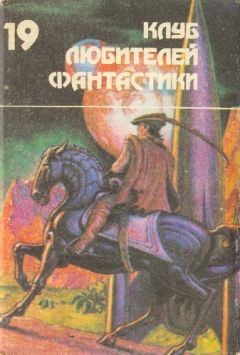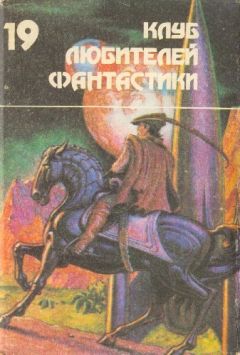основу своей политики примерно с 1805–1808 годов», повлекли за собой, констатировал историк, «фатальные просчеты» [818].
Пылкое развенчание автором своего героя не могло не привлечь внимание: последовали отклики, как за рубежом, так и в СССР [819]. «Единственно в чем, нам кажется, можно упрекнуть А.З. Манфреда, – писал Г.Г. Пайчадзе, – это более сдержанное освещение величия Наполеона в отличие от блестящего анализа процесса перерождения и негативной стороны его деятельности. Избегая деталей, подробного описания позитивной стороны деятельности Наполеона, А.З. Манфред, тем самым, в какой-то степени умаляет значение сильных сторон его личности» [820].
Другому рецензенту показалось даже, что вообще книгу можно разделить на две части: «первая посвящена Наполеону – великому историческому деятелю, вторая – Наполеону – ничтожному и мелкому, ограниченному буржуа и солдафону» [821]. Оба рецензента впадают в схематизацию (позитив – негатив, великий – мелкий). Сам автор избегает ее благодаря динамике своего анализа, хотя выбором контрастных сопоставлений, несомненно, дает основания для критики.
Выскажу свои соображения. В характеристике «нисхождения» героя заметна некая, кажущаяся даже нарочитой, огрубленность стиля. Создается впечатление, что автор не справляется с эмоциями. Антибуржуазность, тираноборчество, антимилитаризм – все это было востребовано, хотя и по-разному в различных кругах советского общества, в разных слоях общественного сознания. Но вполне допускаю, что избыточность лексики порождена личными переживаниями автора, его глубокой увлеченностью судьбой своего героя.
Примечательно, что в книге Манфреда, в отличие от биографии Тарле, нет главы о пребывании Наполеона на острове Св. Елены. По словам дочери, Галины Альбертовны Кузнецовой, отец не хотел (не мог?) писать об этом трагическом финале. Поэтому жизнеописание своего героя Манфред завершает прощанием с Францией перед отправлением на английский бриг: «Он повернулся и сделал решительный шаг вперед – шаг по дороге, уводящей в никуда, шаг в небытие» [822].
У Тарле получился другой финал – в духе, я бы сказал, «оптимистической трагедии». И задумываешься об исторической судьбе, отнюдь не завершившейся на далеком острове: «Где сторожил Его, как Он непобедимый, / Как Он великий, Океан» (М.Ю. Лермонтов).
В любом случае, хотя классовая мотивация определенно выходит на первый план, Манфред остается верен принципу многомерности изображения. Сама социальная детерминированность предстает в его книге все же не только «обуржуазиванием» – термин, ставший в советской историографии не просто социологической, но социально-психологической характеристикой деградации личности.
«Раньше, чем Наполеон был побежден на поле битвы, он, – пишет Манфред, – потерпел поражение…в невоенной сфере … Его победила незримая, неосязаемая, неодолимая сила старого мира». Сделавшись императором, учредив свой двор и новое дворянство, погрузившись в политику династических расчетов, «он становился пленником обычаев, духовных норм, морали, даже внешнего облика старого общества» [823].
Стоит отметить и чисто психологические оценки «нисхождения». Интересна, например, выявляемая Манфредом эволюция «артиста», превращающегося в «игрока». В пору возвышения у Наполеона Бонапарта как часть его многостороннего дарования автором выделяется «огромный актерский талант», позволявший овладевать ситуацией в затруднительных случаях; позже он представляется Манфреду «игроком», не владеющим ни собой, ни ситуацией.
Побуждает задуматься и проницательно выявляемая историком трагедия утраты среды полноценного общения. Неизбежный спутник единоличной власти – разрушение этой среды – приводит героя сначала к духовному одиночеству, а потом и «духовному одичанию» [824].
Вместе с императором перерождению подвергалось и создававшееся им новое дворянство: «Полководцы наполеоновской армии… превратившись в богатых аристократов, в собственников огромных имений, дворцов, больше не хотели ни воевать, ни служить». Напрашивается известный вывод, и автор не обходится без него: «Золото все разъедало, все превращало в тлен» [825].
К кому больше относилась эта морализация – к деятелям эпохи Французской революции или к «новому классу», возникшему после революции в СССР? Не знаю. Лишь в который раз прихожу к выводу, что бремя исторических аналогий неизбывно тяготеет над отечественной историографией, как и над национальным сознанием.
Но историк не ограничился сентенциями. Следуя своему историко-психологическому методу, Манфред стремится раскрыть нравственную и духовную деградацию «когорты Бонапарта», используя присущее ему искусство психологического портрета. Вот – герцог д’Абрантес, которому катастрофически не хватает денег при огромных доходах: «Кто мог бы узнать в этом пресыщенном, тяжеловесном человеке с расплывшимися чертами лицами, небрежными жестами, равнодушным взглядом погасших глаз молодого офицера, полного жизни и отваги, именуемого в узком кругу “Жюно-буря”?» [826].
В подобных типологических образах (Барраса, Бернадота, Сийеса, Талейрана и др.) перед читателем предстает культурно-историческая драма эпохи, как ее увидел советский историк. Сознательно или нет, Манфред создавал – разумеется, эскизно – своеобразный аналог «Человеческой комедии» Бальзака.
Вправе ли я ставить советского историка, исповедовавшего, как полагалось, исторический материализм, где марксизм сплавлялся с позитивизмом, рядом с классиком французского критического реализма? Прав был Далин, отметив, что в книге о Наполеоне Манфред стал самим собой, позволил себе «говорить полным голосом», тогда как раньше, даже биографию Марата создавал, «наступая себе на поэтическое горло» [827].
Тонко разобралась в этом вопросе Оболенская. Для нее Манфред в своем историко-биографическом творчестве выступал именно историком-писателем, «историком-художником» и сам сознавал это, отстаивая, хотя и робко, с оговорками, право историка-ученого на «художественный домысел». Соглашаюсь со Светланой Валериановной, что именно «художественно-образное мышление», укорененное в «свойствах научного мышления и характерных чертах его мировосприятия вообще», определило особое место автора «Наполеона Бонапарта» в советской исторической науке [828].
Образное мышление позволяло Манфреду достичь целостности восприятия, что было недоступно приверженцам позитивизма, эпистемология которого сделалась с конца ХIХ века признаком профессионализма в историописании. Помню критику, которой ученый подвергался за «девиацию» от дисциплинарных канонов. Однако без этого «отступничества» мы бы не имели ни «Наполеона Бонапарта», ни «Трех портретов». И я оспариваю отнюдь не вторжение «художественного домысла», а то, что местами над ним слишком тяготела логическая (или идеологическая) схема. Нечто подобное видится мне в категории «фатальных просчетов».
К числу «фатальных просчетов» французского императора как следствию его «самоослепления» советский историк относил и вторжение в Россию. В целом, отмечая то новое, что было внесено Манфредом в отечественную историографию, нельзя не коснуться темы франко-русского союза [829]. В биографии Наполеона ей посвящена специальная глава, занимающая центральное место в книге и солидно обоснованная дипломатическими документами, включая архивные материалы.
Наполеон Бонапарт выступает у Манфреда убежденным сторонником союза с Россией, а сформулированный первым консулом в январе 1801 г. вывод «Франция может иметь союзницей только Россию» [830] выглядит продуманным и обоснованным. Историк придает этому выводу, можно смело сказать, непреходящее значение. Если сама идея союза с Россией трактуется «новым словом, внесенным Наполеоном в историю французской внешней политики» [831], то неоднократно повторяемый на страницах книг вывод подается своего рода политическим завещанием