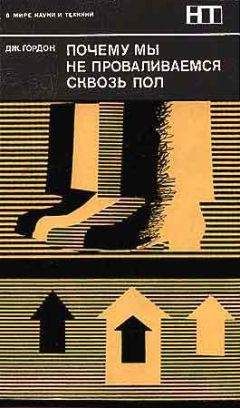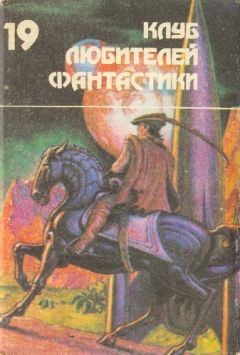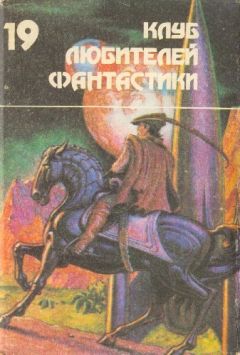семинара, предложил «пойти послушать москвичей». «Москвичами» оказались Манфред и Далин, а поводом для их «десанта» на берега Невы – 200-летие Максимилиана Робеспьера.
Доклад Манфреда был заглавным, очень личностным и особенно впечатляющим. У Далина самовыражение тоже присутствовало. В его докладе «Бабёф и Робеспьер» подчеркивалась политическая и моральная солидарность двух героев Французской революции (особенно в отношении революционно-демократической диктатуры). И, может быть, этой подчеркиваемой близостью персонажей своих исследований, которым они нескрываемо сопереживали, двое замечательных ученых символизировали собственное единение – творческий и человеческий союз, очень значимый для отечественного франковедения в 60–70-х годах, отразившийся и в моей научной судьбе.
Помнится, мое впечатление от услышанного было именно эмоциональным: «как они говорили!». Попытаюсь объяснить, что означало в моей тогдашней оценке это «как». Прежде всего – красиво, вдохновенно, раскованно, с большим эмоциональным подъемом. То был великолепный русский слог, и, несмотря на заметное грассирование, захватывающая ораторская речь.
Особо надо сказать о личностном аспекте моего восприятия. Благодаря своему учителю, а также из-за параллелей со сталинщиной я не слишком симпатизировал якобинским лидерам, и юбилейные доклады не развеяли моих предубеждений. Но такова была сила убежденности докладчиков, что я невольно оценил ее и проникся к ней уважением.
Да что я, двадцатилетний четверокурсник? Странное дело! Только что разоблачен культ личности. Собирается уцелевшее после бесконечных погромов научное сообщество особо «любимого» Сталиным города. Слышат откровенную, восторженную «реабилитацию» вождей диктатуры, опыт которой еще недавно использовался для оправдания авторитарной власти и массовых репрессий. И воспринимают положительно, с пониманием, благодарно. Героизация революции была явно востребованной, она помогала изживать глубокую душевную травму, позволяла верить в преодоление случившихся «извращений», политических и нравственных; и люди науки, тогдашние советские люди с отзывчивостью воспринимали талантливую защиту революционных идеалов, веру в их незамутненную чистоту.
Мне еще предстояло знакомство с Далиным, его разносторонней образованностью. Изначально и навсегда он остался для меня прежде всего представителем поколения историков, «делавших революцию» и своей научной судьбой пытавшихся соединить революции во Франции и России, тем романтическим юношей, что увидел в перспективе Октября 1917 г. единство человеческого рода и остался до конца верным однажды пропетой «Гренаде».
Сотворенное Манфредом и Далиным торжество Французской революции на берегах Невы имело для меня и чисто личные последствия. Я убедился в научной актуальности и общественной востребованности дела, которому собирался посвятить жизнь, а это очень помогло преодолеть короткий, но драматический отрезок времени, прежде чем я в полной мере смог заняться избранным делом. И этому способствовала моя вторая встреча с Виктором Моисеевичем.
Расставшись после окончания университета с любимым городом и любимым учителем, я очутился в Подмосковье с ворохом проблем, из которых особенно беспокоила перспектива занятия наукой. Правда, для меня открылись двери «Ленинки», и я лихорадочно штудировал источники для статьи о «тюремном заговоре» (одно из обвинений на процессе эбертистов). Однако нужно было становиться профессионалом, а это означало поступать в аспирантуру. Не мысля другого занятия, чем история Французской революции, я мог надеяться лишь на Институт истории. Но пару долгих зим меня связывали с Институтом лишь открытки, которые присылали Галина Сибирева и Инна Сиволап, приглашая меня на заседания групп по истории социальных идей и истории Франции.
Разумеется, «гранды» могли заметить мое присутствие, тем более, что Захер лично во время своего посещения Института меня рекомендовал. Но внимание мне уделил лишь Далин. Отзывчивость вообще представляла его характерную черту. Если Манфред был бесспорным лидером сообщества франковедов, Далин стал его душой. Сколько людей с разных концов страны к нему обращались, скольким он смог помочь хотя бы участием! Мне он явно симпатизировал, а, зная историю моего «завала» с аспирантурой в ЛГУ, сочувствовал. Впрочем, я не должен относить неизменную далинскую благожелательность на личный счет. Дело было прежде всего в его отношении к Захеру.
Каким было это отношение или, точнее, что же это были за отношения? Разумеется, Далина и Захера сближала общая судьба. Не только почти два десятилетия изоляции от общества и науки, но и последствия – та самая «анаконда на люстре». Подобно Захеру, Виктору Моисеевичу был закрыт выезд за границу, ограничено общение с иностранными, прежде всего французскими коллегами.
«Прошлое В.М. Далина во многом помешало гармоничному развитию его научной карьеры», – пишет В.А. Погосян. И более того, «наложило глубокий след на его дальнейшее поведение и образ мыслей». Он «избегал разговоров на политические темы, не одобрял критические высказывания о политике правительства или о каких-либо пороках советской действительности, рекомендовал проявлять большую сдержанность при разговорах на эти темы, а лучше и вообще избегать их, порицал за знакомство и общение с иностранцами, не являвшихся гостями Академии наук» [841].
Нет, подобных рекомендаций я от Якова Михайловича не получал, и он с удовольствием рассказывал об общении его дочери с британской делегацией в качестве переводчицы. Но к нерегламентированному общению падчерицы отнесся с настороженностью. Шрамы общения с известными органами давали о себе знать. Двух ученых все же сближало нечто более глубинное, чем занятие общим делом или горестный опыт ГУЛага; наверное, то была простая человеческая симпатия.
Хотя Далин и Захер были представителями одного, первого поколения советских историков Французской революции, их научная школа, отношение и к революции, и к ее изучению заметно различались. Будучи одним из первых популяризаторов Французской революции в СССР (его ранние книжки успели попасть в библиотеку В.И. Ленина в Кремле), Захер пришел в науку о революции зрелым, тридцатилетним человеком, окончившим юридический и историко-филологический факультеты Петроградского университета. Профессиональная подготовка – старая «русская школа» в лице Кареева и Тарле.
Далин, подобно Фридлянду или Старосельскому, пришел в науку о Французской революции прямо из Российской революции, от подпольной борьбы и работы в комсомоле. Учился в Институте красной профессуры. Профессиональная подготовка – семинар Лукина, который он посещал вместе с Манфредом. Сам Далин называл своими учителями Лукина, Волгина и Матьеза [842].
Едва ли в 20-е и тем более в 30-е годы Далин и Захер могли сблизиться. Тогда как Захера заставляли отмежеваться от Тарле «товарищескими проработками», газетным шельмованием и жестокими угрозами, закончившимися исключением из партии и увольнением с работы, молодой Далин совершенно добровольно и искренне критиковал академика с марксистских позиций. Такой критике была посвящена первая большая его работа [843].
Выводы Лучицкого и Тарле о капиталистической неразвитости предреволюционной Франции сделались тогда для советских историков-марксистов casus belli, поскольку ставили под вопрос формационную схему (нет капитализма – нет буржуазной революции, нет капитализма – нет социалистической революции). Обе стороны исходили из одних и тех же фактов, в частности открытого «école russe» широкого развития домашней промышленности в деревне. Но представители «русской