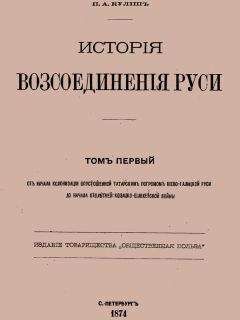Если из позорной транзакции под Зборовым придворные Яна Казимира сделали такую пышную манифестацию в Европе, то бегство хана и Хмельницкого представило им возможность объявить своего короля вторым Казимиром Великим. Появились его портреты с хвалебными надписями в прозе и в стихах. Французы не умели даже назвать побежденного польским королем Кромвеля: он был у них Smilinski, но трубили в католическую трубу изо всей силы. Было выгодно и нужно томным личностям выставлять героем беспутного расстригу иезуита, как выгодно было и нашим жалким православникам трубить по всему свету про доблести мизерного эгоиста и предателя, князя Константина-Василия Острожского и других подобных ему низменных созданий своего века и общества. Наконец Ян Казимир, под пером доктора Кубали, явился в польской историографии с естественной своей физиономией, тогда как наши убогие собиратели чужих суждений и вестей все еще славословят князя Василия, как «даровитейшего и совершеннейшего во всех отношениях человека» [52], а вслед за ним восхваляют и других негодяев, еще более постыдных для малорусской народности. Впрочем и тогда в польско-русском обществе было не без добросовестных людей. В то время, когда в Риме, Париже и Вене торжественно благодарили Бога за попрание врага и супостата католичества, в Польше, наряду с похвалами Берестечской виктории, читались повсеместно пасквили. В одном из них сказано прямо, что услугу фортуны под Берестечком уничтожила панская факция, а она-то и группировалась вокруг Яна Казимира.
В тот опасный и поучительный для гражданских обществ момент, когда третье сословие Польского государства разъединялось со вторым и оба они с первым, Хмельнитчина вызвала разъединение между шляхтой и тем народом, который не имел у неё сословных прав, — вызвала не только в воеводствах, обнятых казацким бунтом, но и в католической Польше. Бунтуя всю чернь, которой не было дела до казацкого девиза за віру, Хмельницкий звал Ракочия в Краков, чтоб он вместе с бунтовщиками подавил доматорствующую шляхту в то время, как сам он расправлялся со шляхтою воинствующею.
По селам, по шляхетским дворам и по городам появилось множество чужих, никому не известных попрошаек, с виду здоровых, сильных и наглых. В народе стали расходиться странные вести, неправдоподобные, но тем не менее повторяемые: будто бы шляхта выступает на рокош против короля; будто бы она замышляет вырезать хлопов; будто бы казаки идут на помощь королю... Шляхта, конечно, видела в этом хлопскую глупость, как ныне мы видим ее в возобновляющихся среди нашей сельской черни слухах о раздаче мужикам панской земли; однакож, предсказываемые в разных местах пожары и угрозы беспокоили ее, и в таком тревожном настроении духа двинулись посполитаки против Хмельницкого. Из донесений, полученных королем под Сокалем, они с ужасом видели, что рутина казацких бунтов, опустошавших Волынь, Белоруссию и Украину в течение полустолетия, не чужда и народу не-русскому, не-схизматическому. Мужицкое движение сзади посполитого рушения шляхты, в случае несчастья на боевом поле, предвещало Польше господство кочевников на обеих сторонах Вислы. 350.000 хмельничан, в соединении со 100.000 отборной Орды, готовы были двинуться в самую средину объятой пожарами шляхетчины. Опасность была так велика, что, по выражению польского историка, «только незнание всей её громадности могло поддержать в сердцах надежду; только слепая судьба могла дать полякам победу».
По замыслу взбунтовать против землевладельцев чернь от Тесмина до Одера, от Карпатских гор до Балтики, Хмельницкий принадлежит к таким кровавым гениям, как Аттилла, Чингис и Тамерлан. Недоставало только исполниться этому гениальному замыслу для умственного наслаждения людей, возводящих казатчину в апофеоз человеческой славы. Закулисным движением польских мужиков управлял у Хмельницкого полковник Стасенко с помощью двух тысяч агентов. Состоя при канцелярии казацкого гетмана, этот почтенный деятель руины рассылал их во все стороны по указанию казака Тамерлана. Пожары и грабежи, подобные украинским, волынским, белорусским должны были начаться по выступлении посполитаков, а повсеместная резня отложена до слушного часу: выражение, не позабытое и в наше время малорусскою чернью.
Так как Хмельницкому не удалось в этом преприятии пожать Геростратовские лавры, то не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что в возмущении католической и православной черни на западе Королевской земли участвовали и наши попы. В Великой Польше отличался предательским рвением какой-то Грибовский: имя, напоминающее одного из возмутителей в Павлюковщину. Но всего больше встревожилось королевское правительство известием об Александре Леоне из Штернберка Костке, иначе Наперском, который поддельными королевскими листами вербовал в Силезии иностранных жолнеров и бунтовал чернь в Краковском воеводстве, — под видом услуги королю, овладел пограничным замком Чорштыном [53], и готовился к широкому бунту. Несмотря на предстоявшую под Берестечком битву, отправили против него значительный отряд: ибо со стороны Чорштына надобно было ждать вторжения Ракочия.
В этом отряде участвовал и польский Самовидец. По его рассказу, Костка-Наперский, подобно Хмельницкому, старался приобрести популярность, в темной массе заботами о неприкосновенности святилищ, и охранял их своими универсалами, в роде следующего:
«Я, нижеподписанный, поручаю и сурово повелеваю жолнерам, находящимся под моею властью, чтоб они сохраняли в целости и неприкосновенности монастырь Тынец и принадлежащие ему села, под опасением смертной казни всякому не повинующемуся сему военному выданному для охраны монастыря повелению, которое скрепляю моею подписью и печатью. Дан в Тынце 8 мая 1651 года. Александр Лев из Штернберка».
В настоящее время казакоманы присоединяют уже и Шпака, и Гонту с Железняком к героям малорусского народа, разумеемого ими по-казацки. Соглашаясь, что это были герои одного и того же пошиба, начиная с Гренковича и Косинского, вношу в пантеон их чествования Костку-Наперского, которого бунт захватывал и русскую чернь в Польше, не взбунтованную самим Хмельницким. Притом же он является последователем нашего Наливайка по части вовлечения в разбой мещан. Подобно тому, как царь Наливай сделал своим наперсником брацлавского войта Романа Тиковича, Костка-Наперский сдружился с Станиславом Лентовским, маршалом солтысов, или свободных землевладельцев-нешляхтичей, обязанных только военною службою в пользу государства. Сохраненное нам Освецимом письмо к нему Костки сделало бы честь и самому Хмельницкому:
«Милостивый пане Лентовский, мой милостивый пан и друг! Слыша о ваших великих рыцарских доблестях» (Лентовский был известен разбоями), «я только восхваляю их и благодарю Бога. При сем униженно прошу, чтобы вы с вашим полком приходили как можно скорее, в возможно большем количестве людей, внушая им, чтобы припомнили себе все кривды от своих панов, как убогий народ угнетен и обременен, и что теперь представляется им прекрасный случай. Пускай же им пользуются: ибо, если теперь пропустят его и не освободятся от бремени, то останутся вечными невольниками у своих панов. Итак приходите поскорее сами и другим, кому сочтете нужным, давайте знать. Только пана Здановского, чтобы оставили в покое, всю же другую шляхту пускай берут и делают с нею, что хотят. Вот какой пускай будет знак, когда пойдете с полком своим: сосновый венок на шесте: по нем опознаемся. Не забудьте, чтоб одни брали с собой топоры, а другие — заступы. Пойдем все под Краков и дальше по всей Польше, если будет (общая) воля. Мы договорились хорошо с Хмельницким и с татарами, и немецкое войско придет на помощь. Благоволите же известить прочих, а сами прибывайте. Остальное расскажет вам изустно податель этого письма. Ожидая вас нетерпеливо, остаюсь вашей милости братом и слугою — Александр Лев из Чорштына. 18 июня 1651 года. Всей братии нашей, принявшей нашу сторону, бью челом. Следует вручить поспешно моему любезному другу, пану Станиславу Лентовскому, маршалу братии нашей».
Разница между Косткой и Хмельницким только в том, что один попал, а другой не попал на кол. Разница между Косолапом, Разиным, Пугачевым и Хмельницким только в том, что тех поймали небольшою сравнительно облавою, а на украинского змея горынича, разбойного чуда-юду не хватало облавы ни у короля польского, ни у царя московского, ни даже у султана турецкого. Поэтому каждый из троих потентатов норовил схватить его за казацкую чуприну и нагнуть к подножию ног своих. Здесь нужна была уже не сила, а сноровка, и сноровки оказалось достаточно у наследника собирателей русской земли. Если бы всем названным разбойникам удалось, как Хмельницкому, злодействовать безнаказанно, карта Европы в настоящее время была бы совсем иная, и человечество опоздало бы многими столетиями в развитии человечности. Но следует помнить, что каждый из прославленных и каждый из заклейменных позором злодеев был продуктом своего общества, и что каждый из них был грозящим пальцем Судьбы для того гражданского общества, которое дало злодею славу, или бесславие. С этой точки зрения краковский Хмельницкий заслуживает такого же внимания, как и Чигиринский.