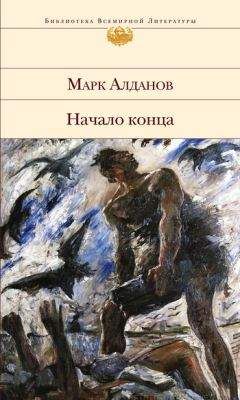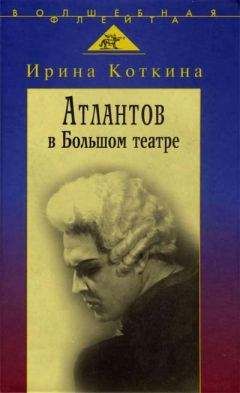В это самое время Казерио в Сетте, получив расчет и деньги от хозяина булочной, купил в магазине за пять франков великолепный кинжал «испанской работы», с выгравированным на лезвии словом «Память» (на суде выяснилось, что кинжал был машинного французского производства и увидел свет в городке Тьер). Быть может, золоченая рукоятка, бархатные ножны (точно нарочно: в красных и черных полосах!), звучное испанское слово на лезвии произвели впечатление на 20-летнего убийцу.
Оставшихся у него денег не хватило для поездки в Лион. Часть дороги, километров тридцать, он проделал пешком. В Лионе занял место в толпе поблизости от дворца, в котором происходил банкет в честь президента. По-видимому, он был спокоен. Вступил в перебранку с какими-то людьми, не желавшими пропускать его в первый ряд, добился своего, выбрал наиболее подходящее место: знал, что глава государства в коляске всегда сидит справа. Кинжал был спрятан у Казерио во внутреннем кармане пиджака. Несмотря на все хладнокровие убийцы, надо думать, что эти минуты ожидания «показались ему годами...» Наконец, послышалась «Марсельеза», показался президентский кортеж, — в провинции, как всегда, гораздо более пышный, чем в Париже. Впереди скакали конные жандармы, за ними трубачи, драгуны, дальше следовала открытая коляска президента. Казерио выхватил из кармана кинжал, сорвал ножны и бросился вперед. В момент удара он встретился с Карно взглядом. «И что же?» — вскрикнул на процессе допрашивавший его председатель. «Это не произвело на меня никакого впечатления». (Ропот в зале.)
Президентом республики был избран Казимир-Перье, непопулярный член непопулярной династии финансистов. Левая Франция усмотрела символический вызов в избрании архимиллионера главой государства. Началась резкая кампания в печати. «Казерио принес его в Елисейский дворец на острие своего кинжала», — сказал вождь социалистов Жюль Гед. Появилась новая злоба дня. Однако волнение, вызванное лионской трагедией, не прекращалось.
Следствие велось очень быстро. Через пять недель после преступления убийца уже предстал перед судом. Ни один французский адвокат не согласился добровольно взять на себя защиту Казерио. Его защищал по должности лионский «батоннье» Дюбрей, выполнивший свою задачу хорошо и добросовестно. Ясно было, что на смягчение участи Казерио рассчитывать не может. Да он смягчения участи и не хотел, — или не показывал, что хочет.
В день процесса здание лионского суда было окружено большим отрядом войск: ходили глухие и страшные слухи. Ничего не случилось. Переполнявшая зал публика, по словам газет, изумилась при виде Казерио: «Где же убийца?..» «Да разве бывают преступники с таким беззлобным, ласковым лицом?» «Белая маска Пьеро», — пишет сотрудник «Фигаро». «Один из тех бледных и худых людей, которых опасался Юлий Цезарь», — говорит другой очевидец. Казерио держал себя на суде мужественно, с оттенком вызова. Но во время речи защитника заплакал, когда тот упомянул о его матери: страстно любил свою мать и ей написал последнее прощальное письмо. Эти слезы на суде очень его расстроили: «Что подумают компаньоны?»
Перед приговором он, по ритуалу, огласил свою «декларацию». Председатель запретил ее печатать. Вероятно, Казерио сказал то, что тысячу раз до него говорили другие анархисты. Мысли его были просты и примитивны. Сказать новое ему было бы и трудно: анархистское учение уходит в глубокую древность. Альбер Делакур, относящийся к этому учению сочувственно, в числе первых анархистов несколько неожиданно называет — Калигулу и Нерона!..
Присяжные совещались только десять минут.
Последовали обычные формальности. Они длились почти две недели. Тем временем в своей камере №41 Казерио читал «Дон Кихота», — в этом можно усмотреть некоторую символику (Равашоль читал Бакунина). Попросил также дать ему популярный астрономический труд Фламмариона, но остался им недоволен: «Да он теист!» Сам он был атеистом и от бесед со священником отказался. Чувствовал он себя очень плохо. Власти поддерживали его укрепляющими лекарствами, давали ему ежедневно по утрам шоколад. Эта заботливость в отношении людей обреченных всегда производит странное впечатление.
Казнь была назначена на 16 августа. Гильотину поставили у тюрьмы на углу улиц Смита и Сюшэ. Снова были со браны жандармы, муниципальные гвардейцы, — глухие слухи не прекращались. Дейблер привез из Парижа свою машину. В газетах того времени можно найти подробное описание казни. Некоторые журналисты говорят, что в последние минуты Казерио потерял самообладание. Но профессор Лакассань, бывший в его камере и сопровождавший его к эшафоту, пишет: «Он вел себя мужественно — без хвастовства, без щегольства, однако и без слабости!» Отказался от полагающихся рома и папиросы. На эшафоте прокричал: «Мужайтесь, друзья! Да здравствует анархия!»
Вопреки надеждам Казерио, со времени его казни анархистское движение во Франции пошло на убыль. Почему была «вспышка» полвека тому назад, неясно, как неясно и то, почему она быстро прошла. Кажется, в наши дни в анархистских кругах намечается некоторое оживление, не выливающееся, к счастью, в форму террора. Но, во всяком случае, радужные надежды Луизы Мишель — тоже к счастью — никак не оправдались. Из ее товарищей по Коммуне и по началу движения 80-х и 90-х годов один стал реакционнейшим из французских публицистов, другой — консервативнейшим из французских послов, третий был главой правительства и чуть не оказался главой государства. Многие, конечно, остались верны мрачным идеям анархии. Однако вернейший из верных, Жан Грав, несколько лет тому назад в заключение книги своих воспоминаний, явно нарушив правило всех политических деятелей, откровенно писал: «35 лет пропаганды, 35 лет ожесточенной борьбы... Что от этого остается? Что остается от движения? Ничего или почти ничего...»
«Ферри-Тонкин» (фр.). Тонкин — район Индокитая, за который Франция, в бытность Жюля Ферри министром, вела жестокую колониальную войну.
Louis Andrieux. A travers la Republique, Paris, 1926, p.p. 261—263. Автор книги не сообщает в воспоминаниях некоторых подробностей своего участия в редактировании «Социальной революции». Так однажды, когда Луиза Мишель в журнале поместила статью о нем: «Ответ г-ну Андрие», он, при посредстве своего «представителя», изменил заглавие на «Пусть молчит гнусный Андрие!» («Silence a l'infâme Andrieux!»). По-видимому, глава полиции артистически наслаждался своими политическими отношениями со знаменитой компаньонкой.
Его настоящая фамилия была Кенигштейн; дед и предок его погибли на эшафоте в Германии. Равашоль — фамилия его матери.
По предложению Луизы Мишель, анархисты избрали эмблемой черное знамя: «красное слишком залито народной кровью». Вождь анархистов Жан Грав, сидевший в тюрьме с известным социалистом Лафаргом, писал: «В политическом отношении он такой же иезуит, как и его тесть Карл Маркс».