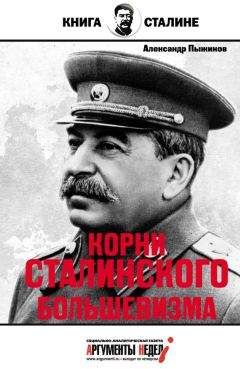В задачи настоящей работы не входит анализ народнического движения и его староверческой направленности. Здесь же мы делаем акцент на том, что конфессиональный разлом России был осознан в сугубо старообрядческой проблематике. Какие-либо иные, в первую очередь сектантские, факторы в 60 – 70-х годах XIX века не играли значительной роли на российских просторах; различные не православные секты воспринимались как некое экзотическое явление. И в качестве подлинно народной религии, присущей русскому духу, революционно настроенная интеллигенция рассматривала тогда именно староверие в его внецерковной традиции.
Тем не менее, как известно, взаимодействия между ними не сложилось. Участники народнического движения все более убеждались, что от религиозных верований, традиций и быта их отделяет пропасть. Подвижничество же интеллигентов в крестьянской среде воспринималось как господские забавы. Например, один из лидеров народнического движения А. Д. Михайлов неутомимо демонстрировал, как надо налаживать отношения с раскольниками на Волге. Он очень гордился своими успехами, серьезно полагая, будто завоевал их признание и обладает прочными связями в этих кругах[63]. Но по воспоминаниям другого участника «хождения в народ». Н. И. Сергеева (из беспоповской семьи), настойчивые попытки Михайлова стать своим среди раскольников не вызывали у них ничего, кроме иронии и скепсиса[64]. Справедлива запоздалая мысль видного теоретика народничества И. И. Каблица:
«Интеллигенция находилась издавна у нас в самой тесной связи с бюрократией и владельцами крепостных душ.
Из их рядов наполнялась она и им, в свою очередь, служила; неудивительно, что народ привык их вполне смешивать. Для него студент – барский сынок и ничего больше».[65]
В статье «Политические воззрения староверия» Каблиц анализировал крушение надежд интеллигенции на революционный потенциал раскола. Призывая к более трезвому и критическому взгляду, он делает главный вывод: массы староверов не настроены на борьбу с властями; они ограничиваются просьбами о свободе своего вероисповедания и не намереваются «творить брань с антихристом»[66]. Более категорична другая известная участница «хождения в народ» В. Н. Фигнер:
«Для нас, материалистов и атеистов, мир раскольников закрыт, а в смысле протестующей силы безнадежен»[67].
В итоге это привело к переориентации прогрессивной интеллигенции конца XIX века: российское общество обретало нового кумира – религиозные, не православные секты, пестрившие на отечественном ландшафте. Интерес к ним, после разочарований в старообрядчестве, рос как на дрожжах. По итогам Всероссийской переписи населения 1897 года, вновь определившей количество староверов и сектантов в пределах тех же 2 %, в обществе развернулась дискуссия вокруг этих официальных данных, признанных не имеющими ничего общего с действительностью. Как писал известный ученый того времени А. С. Пругавин, перепись, вместо того чтобы прояснить конфессиональную картину, до крайности ее запутала[68]. Российская общественность обнародовала свои цифры, которыми и оперировала в дальнейшем: по этим данным, в стране насчитывалось как минимум 20 млн. староверов всех согласий и 6 млн. сектантов;[69] особо подчеркивался рост именно сектантства, неуклонно набиравшего силу. Заметим, в 60 – 70-х годах XIX века старообрядцы уверенно исчислялись миллионами, а счет различных сектантов шел лишь на десятки тысяч;[70] теперь же все изменилось и вопрос о том, за кем будущее, не вызывал сомнений. Прогрессивная интеллигенция уверенно фиксировала конфессиональную траекторию: с конца XVII века массы уходили в раскол, а позднее, на рубеже XIX – XX столетий – в сектантство.[71]
Петербургское религиозно-философское общество, Русское географическое общество инициировали обширные программы по исследованию нового фаворита. Причем предполагалось, что сами сектанты будут присылать различные материалы о жизни общин, а также по возможности записывать все, что происходило в общинах на их памяти или перешло к ним по преданиям. Особенное внимание исследователи просили уделять принятым понятиям о вере, фактам притеснений за приверженность религиозным убеждениям, отношению к воинской повинности, каким-либо политическим симпатиям и т. д.[72] В интеллигентских кругах активно обсуждались баптисты, евангелисты, адвентисты, духоборы, толстовцы, молокане, скопцы и проч. Их классифицировали как секты западного и восточного происхождения, рационалистические и мистические; о появлении тех или иных сект на российской земле шли бурные дискуссии. Большую известность получил спор Д. В. Философова и В. Д. Бонч-Бруевича о сектантах, который сопровождался взаимными упреками в научной некомпетентности и предвзятости[73]. Трудности возникали и при определении границ между собственно сектантами и теми, которые позиционировали себя в качестве православных. Например, сами хлыстовские объединения относили себя к православным, ссылаясь на то, что их учение никогда не было осуждено[74].
Вообще хлысты пользовались наибольшей симпатией российской интеллигенции, которая уверенно считала их третьим по численности религиозным сообществом в России после господствующего церковного православия и старообрядчества. Хлыстовство квалифицировали «наиболее сильной, пламенной и организованной сектой», со свойственной ей легкостью духовного общения[75]; считалось, здесь постоянно появляются новые пророки, увлекающие за собой множество страждущих людей.
В 1910-х годах за хлыстовством закрепилось более привлекательное название – Новый Израиль, которое подчеркивало его судьбоносное предназначение. Некоторые особо впечатлительные головы утверждали, что «в настоящее время хлыстовство охватило всю русскую землю»[76]. Отмечалось организационное построение хлыстовской среды, прошедшей путь от небольших разрозненных ячеек до цельного организма с налаженным управлением, заимствованным из апостольских времен и адаптированным к новым условиям[77]. В этом усматривали прообраз будущей жизни, функционирующей не в соответствии с административными регламентами, а на прочных духовных основах.
Такая направленность мысли соответствовала культурным устремлениям Серебряного века. Вот как это выразил А. Блок: «стихийные люди, – писал он, – пока пребывают во сне, но их сон не похож на наши сны, так же, как поля России, не похожи на блистательную суету Невского проспекта»[78]. На наших глазах происходит пробуждение великана, и этот великан, представляющий собой грозное и огромное явление, растущий не только с имперского периода, а с веков гораздо более ранних – это и есть сектантство[79]. На заседании Петербургского религиозно-философского общества с хлыстами общался один из его ведущих деятелей Д. С. Мережковский[80], жаждавший, по меткому замечанию Н. А. Бердяева, стать новым Чернышевским, только в религиозном ключе[81]. К мистической жизни русского народа с его страстным ожиданием пришествия Святого духа обратился А. Белый. В его знаменитом романе «Серебряный голубь» (1909), посвященном интеллигенции, которая ищет пути к народу, подробно описаны радения в хлыстовском духе[82]. А. Блок, А. Ремизов, М. Пришвин, Ф. Сологуб, посещавшие общину чемреков, где хлысты рассказывали о своих радениях, полагали, что задача православной церкви и хлыстовских общин одна – пересоздание человека, но у хлыстов духовных возможностей для этого несоизмеримо больше[83]. Тесный контакт установился у сектантов с Блоком и петербургским религиозным философом А. Мейером, которых те считали наделенными сильным «пророческим» даром[84]. А один из руководителей Нового Израиля П. М. Легкобытов призывал утонченных поэтов и прозаиков: «Бросьтесь в чан, и мы воскресим вас!»[85] И призыв этот падал на благодатную почву. Дошло даже до того, что один из представителей религиозно-философского движения поэт А. Добролюбов в прямом смысле осуществил мечту своих единомышленников, подавшись в сектанты, в народ; его уход как бы символизировал прорыв культуры в народную жизнь[86]. Этот шаг религиозного синтеза крайне взволновал интеллигентские круги. Мережковский описывал поступок Добролюбова в терминах преображения, сравнивая его с самим Франциском Ассизским[87]. Хотя никто из деятелей первого ряда не последовал этому смелому примеру, символистски настроенная интеллигенция с готовностью имитировала хлыстовские радения, выражающие, по ее глубокому убеждению, народный дух. В этом смысле точно подмечено, что сами интеллигенты-символисты выглядели как своего рода «секта служителей красоты»[88]. Однако, подобная восторженность интеллигенции, ее стремление духовного сближения с мужицкой Россией, по меткому замечанию М. М. Пришвина, больше напоминало взятие религии напрокат у народа[89].