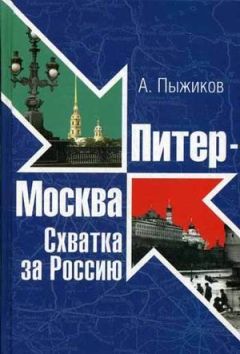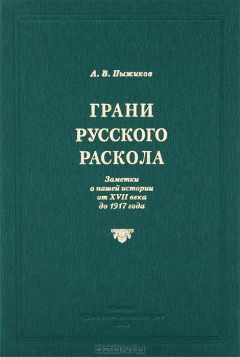Советская историческая наука, опиравшаяся на определенные исследовательские методы, представляла отечественную буржуазию в виде монолита, противостоящего пролетарским массам, что привело к нелепостям, которые сегодня стали очевидными. В частности, как мы только что увидели, за социально-государственные новации ратовала московская группа. Однако советские ученые называли сторонниками перемен именно питерцев; а причиной, которая якобы заставила их занять такую позицию, они объявляли близость к центру революции, где пролетариат «хорошо проучил» столичных капиталистов[1134]. Дело в том, что историкам в Советском Союзе было важно показать все происходящее как вереницу фактов, неизбежно ведущих к великой пролетарской победе Октября 1917 года. Но в результате противостояние буржуазных группировок оказалось на периферии исследовательского поиска. Эти группировки имели разное происхождение и двигались по разным траекториям, особенно в последние два десятилетия существования империи. Каждая из них по-своему определяла перспективы российской модернизации и свое место в этом процессе. И борьба двух этих сил за доминирование дала возможность оформиться еще одной, третьей, силе.
У московского купечества, активно разыгравшего народную карту, явно оказалось недостаточно политических наработок, чтобы удержать под своим контролем ситуацию после февраля 1917 года. Попытка реализовать программу преобразований не удалась, и эпопея с ограничением прибыли убедительно это подтверждает. Патриотическая инициатива москвичей очень скоро вышла из-под их контроля; ее подхватили те, чья политическая капитализация напрямую зависела от степени радикальности принимаемых решений. Министры-социалисты провели масштабную налоговую реформу – скорее не по ограничению, а по изъятию у предпринимателей прибылей и доходов. Вместо солидного и либерального Четверикова на авансцену вышли новые государственные деятели – лидеры Совета. Их налоговое администрирование, преследовавшее цель переложить тяготы экономического кризиса на плечи имущих слоев, включало три постановления: о повышении подоходного налога, о единовременном налоге и об обложении сверхприбыли[1135]. После принятия этих постановлений крупные плательщики вынуждены были отдавать государству в общей сложности до 90% своих доходов. Причем обложению подлежали прибыли минувшего операционного года, которые все предприятия уже выплатили и израсходовали[1136]. И тем не менее Совет рабочих и солдатских депутатов рассматривал эту меру в качестве лишь первого шага и заявлял об обширной финансово-экономической программе, к воплощению которой только еще следовало приступить. Несомненно, «ободряло» революционную демократию и напоминание о том, что сама «крупная буржуазия не сдаст своих позиций, не откажется от своих привилегий и барышей»[1137].
Происходящее шокировало не только предпринимательские круги питерцев и южан, но и авторов этого купеческого начинания. Последствия намеченных фискальных мер были проанализированы Особым совещанием по обороне. На заседании царила паническая атмосфера; его участники предрекали скорую остановку большинства предприятий, которые вследствие налоговой нагрузки лишатся как оборотных средств, так и части основных капиталов. Фискальное бремя по ставкам, предусматривавшимся новыми постановлениями, превышало действительную прибыль предприятий и по сути устанавливало 100-120-процентное обложение. Подобные выплаты были невозможны без поддержки казны, а это, в свою очередь, лишало государство значительной части налоговых поступлений. Абсурдность ситуации была налицо[1138]. Питерские банкиры, возмущенные тем, что никто даже не удосужился поставить их в известность о готовящихся налоговых реформах, заявили, что не смогут предоставить кредиты, необходимые предприятиям для выплаты причитающихся платежей, поскольку и сами обессилены тем же фиском[1139].
Здесь следует сказать об одной любопытной странице истории тех дней. После отставки Коновалова, ушедшего под давлением буржуазных группировок, озлобленных последствиями государственных затей московского купечества, в дело вступили международные тяжеловесы. Союзники понимали, в какой сложной ситуации оказывается страна. В Россию командировались видные деятели европейских социалистов, призванные помочь новой российской власти обрести политическую устойчивость, в частности, за счет решения социально-экономических проблем. Одним из первых прибыл член бельгийской рабочей партии Де Букер. Он удивился, что на многих предприятиях управленческие функции взяли на себя фабрично-заводские комитеты, не обладающие нужной подготовкой и не несущие ответственности за производство. Но еще больше его удивила пассивность самих предпринимателей. Если бы у нас случилось нечто подобное, говорил Де Букер, союзы хозяев призвали бы на помощь общественное мнение. А в Петрограде распространено мнение, что рабочие комитеты по крайней мере предохраняют производства от откровенного расхищения[1140]. Бельгийский социалист добросовестно проводил анкетирование предприятий и неизменно предписывал им регулирование по западным образцам: по его убеждению, только промышленная демократия могла помочь русской революции преодолеть экономическое расстройство[1141].
Но главным учителем молодой российской демократии стал английский министр труда А. Гендерсон. Премьер Великобритании Д. Ллойд Джордж считал его не просто опытным политиком, а «крупнейшим политическим организатором своего времени»[1142]. По приезде в Россию Гендерсон заявил, что в Великобритании все с восторгом отнеслись к русской революции, однако все чаще недоумевают по поводу того, что же, собственно, здесь происходит[1143]. На заседаниях во Временном правительстве и затем в Московском биржевом комитете он призвал всех не отчаиваться и наметил четкую программу для российских властей и бизнеса. На русской промышленности, сказал английский министр, лежит особая ответственность: во имя интересов государства следует внимательнее относиться к требованиям рабочих и всеми силами улаживать конфликты. Как он убеждал московских биржевиков, вводимые меры - временные, необходимые в условиях войны. Например, в Англии это хорошо осознали и предприниматели, и рабочие: там налоговая реформа по ограничению прибылей прошла без особых затруднений. По взаимным договоренностям с трудящимися была приостановлена даже деятельность профсоюзов, история которых насчитывала уже около ста лет. Вся промышленность, разъяснял британский министр, находится под строгим государственным контролем, служащим буфером между рабочими и промышленниками. Такая система позволяет избегать конфликтов: все претензии рабочих рассматривает государство; однако существуют и третейские суды, и примирительные камеры. Гендерсон выразил веру в здравый смысл русского рабочего[1144]. И при этом не забыл передать русскому правительству обращение фирм, принадлежащих английскому капиталу: желательно, говорилось в этом документе, чтобы власть взяла на себя ответственность по определению прав рабочих, по разрешению конфликтов, связанных с заработной платой, и по защите акционеров от насилия[1145].
Надо признать, что благодаря примиренческой миссии Гендерсона настрой российского министра труда заметно смягчился. Теперь Скобелев обнадеживал предпринимателей:
«Долг демократии – честно признать, что Россия не готова к социализму и что для торжества свободы необходимо сотрудничество с буржуазными кругами»[1146].
Или:
«Общение с Москвой дало мне очень много... здесь самобытное творчество, и наша задача свести в единое целое весь этот разнообразный опыт»[1147].
Казалось, то, что не удавалось Коновалову, совершил маститый британский деятель. Немалое впечатление произвели его речи и на промышленников. Например, С.Н. Третьяков, с удовольствием пересказывая слова Гендерсона о том, что в Англии «труд и капитал дружно идут нога в ногу», прогнозировал: скоро так будет и в России[1148]. На митинге предпринимателей в театре Зимина ему вторил П.П. Рябушинский:
«Как будто все начинает понемногу проясняться и социалистическая часть министерства переменила уже свои воззрения»[1149].
Однако если Скобелев внял увещеваниям английского коллеги, то в Совете рабочих и солдатских депутатов явно и не помышляли о братании с буржуазией. Это отчетливо выразило эсеровское «Дело народа», уделившее особое внимание миссии Гендерсона. Издание акцентировало внимание на просьбе английских владельцев к российскому правительству передать их предприятия под контроль государства. Этот шаг расценивался как уступка рабочему классу: британцы, не склонные к предпринимательскому максимализму, ясно увидели, в какую бездну увлекают себя и страну русские бизнесмены, привыкшие под охраной старого режима к безудержной эксплуатации и выколачиванию прибылей[1150]. Вместе с тем газета предупреждала: кто думает, что правительственный контроль в России напоминает английский, тот жестоко ошибается. В Великобритании помимо ограничений прибыли и хозяйских прав предусмотрены запрет стачек и административные ссылки за агитацию, то есть фактически сведено на нет фабричное законодательство. Этого Временное правительство никогда не допустит, зато оно, вне всякого сомнения, обязано воспользоваться политикой государственного вмешательства в отечественную промышленность[1151]. Так что в целом, помимо вразумления части министров-социалистов, Гендерсон мало чего добился. Выправить ситуацию, используя английский опыт, ему не удалось. Это продемонстрировал громкий конфликт в Москве (где неделей ранее Гендерсон излучал оптимизм) между рабочими и руководством Московского металлического завода Ю.П. Гужона[1152]. В конце июня 1917 года Особому совещанию по обороне пришлось специально рассматривать этот конфликт, пригласив представителей обеих сторон. Но между ними состоялся не диалог, а очередной обмен взаимными претензиями. Администрация указывала на полную дезорганизацию производства и административно-технического персонала. Государству пришлось прибегнуть к секвестру предприятия[1153]. Рабочие массы никак не соответствовали европейским рецептам нормализации экономики, поскольку ориентировались на иные способы решения своих проблем.