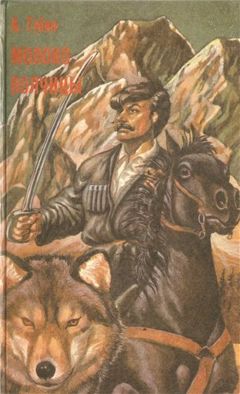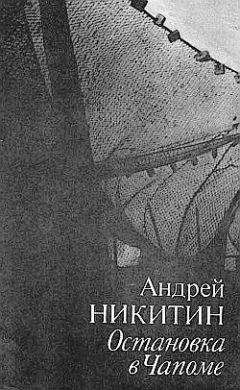Дома мать шепнула, что являлся братец Михей, в закрома заглядывал, подозревает, должно, Глеба в торговых делах. Ладно, пора остановиться. Уже и в селах начался голод. Прошло всего четыре недели — и Глеб сделал сказочную карьеру, разбогатев на всю жизнь. Да, за четыре недели обогнал станичников на десятки лет. Надо лишь спустить последний товар и переходить крестьянствовать хоть бы и в коммуну. Последние акции он проделал с людьми хорошо знакомыми, чтоб не погореть на черном рынке. Этими людьми были Мария и бывшая барыня Невзорова.
Глеб недовольствовал, что Мария поспешила сдать в коммуну корову, купленную на его деньги, где ее съели коммунары. Мария чувствовала себя виноватой и, чтобы утешить возлюбленного, да и голод прижимал, принесла ему на мену серьги с златокамнями и крест дедушки Ивана. Глебу стало совестно. Но вообще-то они пока не венчаны, и зачем они ей, побрякушки, еще зарежет за них какой-нибудь Гришка Очаков, а повенчаются — и добро станет общим, опять же ей эти серьги, так что выгоды ему тут никакой. Два пуда крупчатки насыпал ей, баба на сносях, надо, чтобы у матери молоко было. Хотя, подумал потом, крупчатку давать не следовало: стельные коровы едят все подряд, а после отела с разбором, перебирают. Мария же сделала аборт у доктора.
В тот же день Настя Синенкина, видя щедрость Глеба, принесла ему старенькую швейную машину «Зингер». Он дал много дороже машины — кулек пшеницы, но от данного урвал целый фунт, недовесил на ржавых весах, на которых быстро кланялись — не давал остановиться — два железных клюва. Весы, купленные по случаю, изображали пару лебедей.
А барыня Наталья Павловна сама встретилась на улице. Рыженькая, легонькая, как былочка, — за ветром унесет. Она поздоровалась с давнишним кунаком и натурщиком. Он внушал доверие — фуражка со звездочкой, знак участия в гражданской войне, новый полушубок, шерстяные гетры. Поговорив о голоде и холоде, Невзорова сказала, что есть у нее колье изумрудное, а хлеба нет. Пошли к ней домой.
В доме не раздевались — холод, хоть собак гоняй. Барыня осталась в пиджаке шинельного сукна и стоптанных кавказских бурках на деревянной подошве. Изумрудное колье было спрятано за картиной — автопортрет художницы довоенных лет. Невзорова на картине сидит на изящном венском стульчике против сапожного верстака. В ослепительном платье, под вуалью, в шляпе с перьями. Лицо, по выражению станичных баб, как папиросная бумага. В руках надкушенный гранат, алеющий, как губы. Сочно написаны молотки, клещи, свеча, обрезки сафьяна, тисовые колодки. Сапожник, старый жирный ассириец, Глеб знал его, с оспяным, черным, как у сатаны, лицом, угодливо склонился у ног заказчицы с ножиком в зубах. Волосатыми ручищами он снимает смерок с прелестной ножки, не поднимая глаз на французские прозрачные чулки, уходящие в волнующие высоты женского тела.
Полюбовавшись зелеными огнями колье, Глеб сунул его в гаманок, словно дело уже решено.
— Чего хотите: цибарку нольки — лучшей муки, или цибарку пшена?
— Что вы, товарищ Есаулов, на петербургских балах смотрели не на мою мать-красавицу, а на колье, отец купил его в Варшаве.
— Балы теперь кончились, жрать нечего. И вот что, Наталья Павловна, я думаю: дом-то у нас отберут скоро или жидов вселят, зачем он вам? Такую махину не отопить. Есть у меня пять пудов пшена, но если к дому дадите придачу, дам и я добавок — ведро мучицы. За эти камушки до нового урожая вам не прожить, а жизнь-то подороже, считай, камушков.
— За дом пять пудов пшена?!
— На базаре два дурака: один просит, другой дает. Говорите вашу цену.
— Послушайте, это наглость! — кипятилась барыня.
— А год, предсказано, будет неурожайный.
— Шесть пудов и два ведра муки! — храбро торговалась барынька, считающая, что надо быть прижимистой и практичной с этими казаками.
— Ладно, наскребем еще пуд, только сами понимаете, дело гробовое, язык отрезать. Придача какая?
— Маузер отцовский.
Она знала: за оружие — суровая кара, и боялась сдать маузер допросами затаскают, и теперь была рада избавиться от опасного соседства на чердаке, под волчицей.
Сбылась мечта Глеба. Дом рубленый. Обложенный лимонным георгиевским кирпичом. Под цинком. По коньку решетка. На решетке римская волчица, давно радовавшая Глеба. Оскаленная пасть, восемь тяжких, налитых сосцов, бронзовая шкура будто монетами выложена.
Густо смазаны дегтем колеса арбы. Тихо, без скрипа, с глухим особенным пристуком подъехал ночью Глеб с вениками. Как младенца, внес мешок на руках. Наталья Павловна схватилась за угол мешка помогать. Пшено как мелкая золотая дробь. Мука в узле. Художница сладострастно погрузила руку в прохладную плотную мякоть муки, тут же навела в мисочке мучную болтушку, часто макала и облизывала тонкие пальцы. Весов нет, и нечем проверить, шесть, а может, и четыре пуда в мешке. Показала казаку, где взять придачу. Чувствуя надежную тяжесть, Глеб не разворачивал маузер дело делали на вере.
— Пишите, — диктует казак, светя горящими листами «Истории искусств» — больше нечем, а спички жаль. — Я, такая-то, продала сего числа и года самостоятельному хозяину такому-то дом — шесть комнат, кладовые, веранда, башня — за пятьсот миллиардов рублей, которые, рубли, мною, такой-то, получены сполна и полностью в присутствии свидетелей Марии Федоровны Глотовой и Василия Кузьмича Колесникова по имени Оладик, и к означенному хозяину такому-то претензий не имею и иметь не могу…
Карандаш нашелся, а чистой бумаги не было. Домашнюю купчую, без нотариуса, написали на обороте вырванной из книги репродукции «Поцелуй Иуды». Перечитав бумагу дважды, Глеб прошел по темным, холодным комнатам, любуясь приобретением. Дом отменный. Хватит барам, господам и буржуям пожили, попили народную кровь, теперь рабочая власть. Все принадлежит трудовому народу.
В комнате со стеклянной крышей чиркнул спичкой, хотя спичка тоже стоила миллиард. И осветил миллиарды миллиардов — стены круглой комнаты-грезы оклеены денежными купюрами трехнедельных правительств, прошедших по югу России. Тошно закружилась голова от этаких обоев, от угнетающего бессилия многотысячных знаков. Были тут и с «колколами».
Новый хозяин распрощался с жилицей, сел на арбу, привычно чмокнул губами на Машку и растворился в ночной тьме, яко тать. По дороге сожалел об оставленном мешке — менялись ведь без тары, а Наталье Павловне бог послал, она на мешках рисует.
Радовал маузер. Теперь крестьянствовать поспокойнее будет. Начиная с двенадцати лет, Глеб избегал моментов, когда при нем не было оружия.
Узнав, что брат купил новый дом, Михей Васильевич помрачнел — вот он, нэп, два шага назад. При встрече сделал вид, что не заметил Глеба.
— Братец! — окликнул его Глеб.
— Генри Форд тебе братец — кровосос есть такой в Америке. Морган еще, Дюпон, Меллон, Крупп — вот тебе компания. А начинали с того, что ботинки на улицах людям чистили.
— А чем теперь занимаются? — полюбопытствовал Глеб.
— Крупп выращивает коней.
— Коней?
— Стоят те кони в железных стойлах, ревут оглушительно, питаются человечиной. Ишь ты, какие хоромы отхватил — даром!
— Мне даром чирей не сел!
— Тесно, что ли, в старой хате?
— Михей, зачем делали революцию?
— Для счастья трудового народа.
— А я не трудовой? — показал Глеб тяжелые ладони в желтых пятаках мозолей. — Вы вот, партийные, тоже хлеб едите, а кто его сеет? Или нам век жить под соломой? Мать крашеные полы только в гостях видала, сама прожила на глиняных.
— Ты о матери помалкивай! — И полоснул взглядом, словно бритвой.
К лету новый дом разобрали, перевезли на дедовское подворье, чтобы поставить рядом с хатой. Перевозили работники. Волчицу Глеб отвинтил сам и сам отнес под мышкой, как новорожденного телка. Ставил дом Ванька Хмелев. Кладку кирпичную делал дядя Анисим. От зубчатой башни хозяин отказался разве что кукурузу на ней сушить. Из шести комнат сделали четыре. Под лом положили серебряную монету — для богатства, клок шленской шерсти — для тепла и крошку ладана — для святости. Строить Глеб любил. Но решительно не понимал высоких строений — «ровно в ауле!». Ему по душе множество низеньких амбарчиков, клеушков, пристроек, не о себе — о скотине заботился. Двери в господские комнаты он снизил, хотя и сам чертыхался, задевая лбом притолоки.
Банкетный зал Невзоровых Глеб приспособил для гусынь и квочек, сидящих на яйцах, отгородил загончики для молодняка, прибил кормушки. В комнате-грезе у Невзоровых стояла кадка с пальмой, на стенах картины, на полу яркий пушистый ковер, мраморный столик-камин. Глеб выбросил камин «сорок печек!». Верхний, элегический свет забелил известкой. Стены с интимными тенями оборудовал полками и крюками для хомутов и рухляди, которая уже не нужна, но выбрасывать жалко.