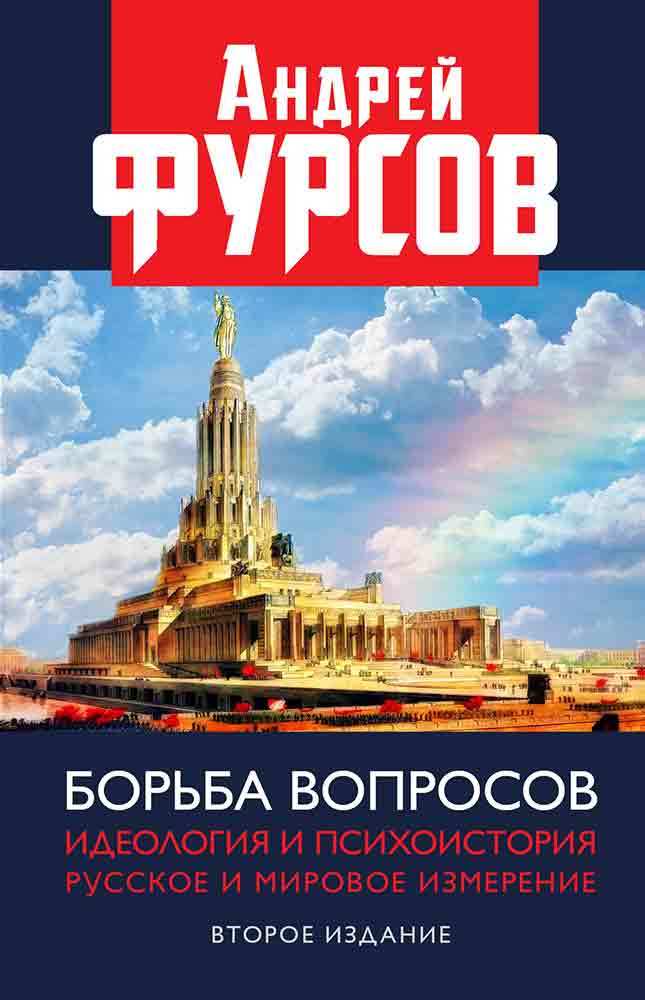социальной науки и попытках выйти из него на пути дисциплинарного синтеза с историей и востоковедением, который на самом деле создаёт больше проблем, чем решает, плодит большое число исследований ad hoc и рушит остатки универсального лексикона социальной науки. И это не случайно.
Имея одно и то же название – наука об обществе, социальная наука (дисциплины ЭСП комплекса), с одной стороны, и история и востоковедение, с другой, суть принципиально различные когнитивные конструкции. Попытки объединить их выявляют это различие негативным образом (неудачи), но до сих пор не осмыслены адекватным образом. Перефразируя Оруэлла можно сказать, что все науки равны, но некоторые (в нашем случае это социальная наука) равнее. В системе знания о мире, в том виде, в каком оно оформилось во второй половине XIX – начале XX в., социальная наука занимает доминирующее положение. Это «равнее» обусловлено прежде всего тем, как использовались в конструкции той или иной дисциплины пространство и время. Речь, разумеется, идёт не о физических пространстве и времени, а о социальном пространстве и времени как объектах анализа (интеллектуального присвоения), т. е. как об аналитических категориях и одновременно средствах и предметах исследования в той или иной дисциплине.
Ось «пространство – время» – не единственная, конституирующая различные дисциплины. Есть и две другие – «универсальное – уникальное» и «субъект – объект». Пересечение этих линий тем или иным способом и конституирует ту или иную дисциплину новоевропейской науки.
II
То, как та или иная дисциплина организована, сконструирована с точки зрения использования в ней времени и пространства – кардинально важный момент в (само)определений данной дисциплины. Тем не менее, эта проблема до сих пор ускользала от исследователя, а ведь её постановка является необходимым, хотя и недостаточным условием преодоления кризиса социальной науки, которой – сегодня это проявляется со «стеклянной ясностью» – не выкарабкаться из «эпистемологического ада» в одиночку, вне связки с историей и востоковедением. Правда, реализация этой связки приведёт не просто к сущностному изменению социальной науки (а также истории и востоковедения), а к возникновению нескольких социальных наук – разных наук о разных социальных системах, что потребует, во-первых, наведения между ними мостов; во-вторых, преодоления ложного универсализма и создания универсализма истинного.
Итак, объектами экономической науки, социологии и политической науки являются экономика, гражданское общество («общество») и политическая сфера, но не вообще, а европейского-пространства-в-настоящем. Это так по определению, поскольку для анализа именно этого пространства в настоящем, в современном (modern) состоянии и была создана западная социальная наука. Пространственно-временные характеристики дисциплин ЭСП комплекса носят ограниченный характер: пространство – европейское (североатлантическое), а время – настоящее.
Этот двойной редукционизм сыграл с социальной наукой злую шутку. По сути он устраняет время, растворяя его в европейском пространстве (или распространяя его на все времена – в данном случае с точки зрения аналитического результата это одно и то же): структуры этого пространства становятся моделями для изучения структур везде и повсюду, т. е. распространяющимися на все народы и эпохи (европоцентризм, а точнее – западоцентризм), а следовательно – вневременными. Парадоксальным образом редукционизм, о котором идёт речь, имеет своим следствием отрицание времени в социальной науке (как подход Хаттона, открывшего глубинное время – так называемая хаттоновская революция в геологии – привёл к устранению истории из геологического времени).
Можно привести ещё одну аналогию. Размышляя о капитализме как динамичной системе, какой он виделся самим европейцам, мы можем сказать, что для западных учёных (по крайней мере, для подавляющего их большинства) достаточно знать состояние этой системы в настоящем, чтобы описать прошлое и будущее данной системы и вообще любой социальной системы, эдакое «социальное ньютонианство». Здесь не только пространство растворяется во времени, но и время растворяется в пространстве. Поскольку пространство зримо и осязаемо, детем-порализация пространства более очевидна, чем де-спациализация (от space – пространство) времени. В результате методологически социальная наука как изучение «теперь» (now) и «здесь» (here) обретает «тёмную сторону» – изучения «нигде» (no-w-here), как только объектами её анализа становятся внеевропейские и досовременные структуры. Лучшее, что она может произвести в этом случае – негативный снимок современного Запада под видом несовременной и незападной реальности.
Речь идёт об определении неевропейских и несовременных (докапиталистических) обществ как таковых, где нет частной собственности, нет гражданского общества, нет свободных городов и т. д. В результате вместо разнообразия азиатских, африканских, доколумбовоамериканских миров возникает гомогенный в своей незападности универсум, главное в котором (и в определении которого) – не его собственные черты, а отсутствие западных. Так западное время и пространство в качестве аналитических конструкций обретало универсализм, но универсализм негативный, не обладавший реальными познавательными потенциями не только неевропейского мира (это очевидно), но и европейского досовременного (это менее очевидно).
Мы знаем, что до эпохи Модерна, т. е. в другое время – в прошлом в Европе, т. е. на том же самом пространстве существовала другая Европа – сначала античная, а затем средневековая. Задача изучения этого времени (прошлого) без своего пространства (оно занято современной, настоящей Европой) была возложена на историю, которая с точки зрения ЭСП комплекса автоматически приобретала статус второстепенной, второразрядной науки; в немалой степени этому поспособствовали сами историки детеоретизацией своей дисциплины и исторического нарратива в целом. Это во-первых.
Во-вторых, история Модерна – это история экспансии Европы в неевропейское пространство. Изучение этого пространства стало практической необходимостью. Для изучения тех пространств, которые были населены народами без письменности, были созданы дисциплины этнологии и культурной антропологии. Для тех пространств, где Запад столкнулся с довольно развитыми цивилизациями, способными к сопротивлению в сфере культуры, была создана дисциплина ориентализм (востоковедение).
В процессе научного отражения экспансии капитала, буржуазный ум («наука») повторил логику капитала. Как сам капитал создавал «докапиталистические» классовые формы в тех частях мира, где этих форм до капитала не было, буржуазный ум создавал для изучения племенных обществ этнологию (которой как особой дисциплины ранее не существовало) и ориентализм, базой которого стал старый корпус восточных штудий, и это сразу же окрасило традиционный ориентализм в филологические тона.
Аналогичным образом дело обстоит с историей. В качестве новой (новоевропейской) дисциплины, созданной уже в буржуазном обществе она могла использовать старый корпус исторических (главным образом донаучных) штудий. Однако налицо резкий разрыв, дисконтинуитет между старым («донаучным») корпусом досовременных ориенталистских и исторических штудий, с одной стороны, и ориентализмом и историей XIX в. Внешне, однако, дело выглядит так, что история и ориентализм суть старые дисциплины, на которых лежит мощная печать если не досовременности, то несовременности, тогда как экономическая наука, социология и политическая наука – дисциплины современные, принципиально новые, а потому перворазрядные. Имплицитно это предполагает, что в системе новоевропейского знания история и ориентализм – дисциплины (и науки) второразрядные.