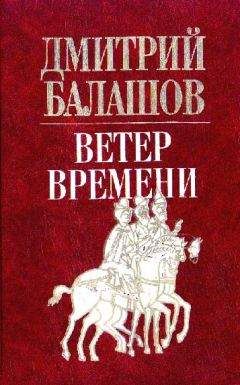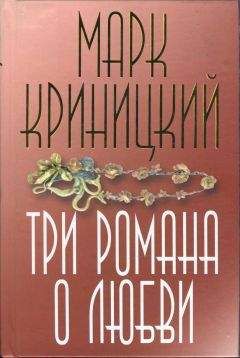Но, однако, начиналось и обратное. Когда прошла первая волна всеобщего ужаса и возмущения (а Хвоста как-никак уже не было в живых!), многие начинали припоминать и то, чем был виноват Хвост перед Москвою – или казалось, что был виноват, – его безлепую борьбу за место тысяцкого, бессилие противустать Ольгерду; даже и преступление его отца, Петра Босоволка, убившего некогда плененного рязанского князя, поставлено было ему в вину. Пошли новые перекоры и пересуды, вновь едва не дошедшие до драк между горожанами.
В самый разгар этой колготы, споров и начинающегося бунта дошла весть о возвращении владыки Алексия.
Русское серебро и на этот раз помогло Алексию. Помогла, кроме того, смутная тревога греков, сообразивших наконец, что подарить русскую митрополию язычнику Ольгерду, который вот-вот к тому же примет католичество, опасно прежде всего для них самих, ибо тогда дни и даже часы независимой константинопольской патриархии будут сочтены. Помогли афонские монахи, помог Григорий Палама, помог и Филофей Коккин, чем мог и сколько мог.
Патриархия в конце концов предложила исполнить на деле Соломонов суд и разорвать живое тело митрополии надвое: Роману достались епархии Волыни и Черной Руси, Алексию – Киев и Владимирское Залесье. Греки считали, что таким образом удовлетворяют обе стороны, и убедить их в том, что погубить половину православных епархий, отдав их под власть Литвы и католических патеров, так же глупо, как и отдать Ольгерду всю митрополию, Алексий уже не смог.
Почти с отчаянием наблюдал он этих людей, которым ближнее и корыстное совершенно застило глаза, не давая видеть далекое и святое. Как-то, потерявши на миг выдержку, Алексий вопросил одного из младших секретарей патриархии:
– А что вы будете делать, когда враги – католики или турки-мусульмане – вновь ворвутся в Константинополь и станут жечь, грабить и ругаться святыням?
– Дальше Августеона они не пройдут! – ответил монашек, глядя на него светлыми глазами. – Святая София защитит себя от вражьего плена!
Алексий поглядел на него почти с отчаянием и сдержал готовый вырваться стон. Греки забыли (он помнил, русич!), как голые непотребные девки плясали на престоле Святой Софии! Грядущее будет еще страшнее. Сама София исчезнет, и вера православная будет низвержена в персть. Но светлоокий монашек так-таки ничего не понимал, да и не пытался понять, ибо для него сегодняшний указ, изданный в секретах патриархии, определял и днешнее, и будущее, а для упрямых русичей – вот такой готовый ответ: «Господь защитит!» (А и не защитит, они при этом умывают руки, подобно Пилату.) «Неужели и мы когда-нибудь постареем настолько, что любой самый смертоубийственный указ будем бестрепетно принимать сами на ся, ссылаясь при этом для оправдания совести своей на какие-то высшие соображения, на верховные, не подвластные нашему разумению силы?
Нет! Господь, давший смертным свободу воли, не должен и не будет спасать нас, ежели мы сами возжаждем собственной гибели! И в том как раз, что мы своими руками сотворим свою гибель, и есть воздаяние за грех!
Что ж, Ольгерд будет захватывать княжество за княжеством, а греки передавать ему епархию за епархией, а католики – как они это уже проделали в Галиче и на Волыни при поляках – уничтожать православные храмы и перекрещивать народ в латинство? Воистину, великий град Константина, ты сам готовишь неотвратимую гибель себе!»
Алексий очень спешил на этот раз, понимая, что без него может на Москве совершиться всякое, но произошедшее превысило даже и его тревожные ожидания. Потеря Ржевы и Брянска – вовне, убийство тысяцкого – внутри. Княжество гибло, и с ним погибало дело Руси!
Он мчался к Москве в метельном вое, загоняя лошадей, мчался так, словно еще мог отвратить и смерть, и позор, хотя ничто неможно было вернуть из сотворенного неразумными московитами. Он и сам был уверен, почти уверен, что убийство Хвоста – дело рук Вельяминовых, и положил себе непременно и сурово наказать убийц. В конце концов, в его руках был суд церковный, и суд этот он собирался сделать высшим судом владимирской земли, решая на нем княжеские споры и свары.
По приезде в Москву Алексий, отслуживши торжественную службу в Успенском храме, показался одному только великому князю и имел с ним долгую молвь, после которой Иван Иваныч вышел вовсе раздавленный, со слезами на глазах. Затем Алексий начал вызывать к себе на исповедь и для собеседования великих бояр одного за другим. Вызывал и многих послужильцев великих бояр, постепенно убеждаясь в том, что Василий Вельяминов действительно не виноват, по крайней мере прямо, в убийстве Хвоста, хотя вся Москва указывала именно на него.
Владычное следствие начинало заходить в тупик, когда к Алексию на прием попросился бедный попик с Занеглименья и, допущенный к митрополиту, начал, робея, потея, бегая глазами и заикаясь, косноязычно рассказывать про какую-то посадскую жену, которая застирывала кровавое платье сына, а потом, испуганная, прибежала к нему, благо принадлежала к его приходу, и на исповеди сказывала…
Попик открывал тайну исповеди, чего не имел права делать, и потому запинался, смолкал, краснел, и понять его было очень трудно, и Алексий, все думы коего были об ином (за час до попика он, гневая, отчитывал Василия Хвоста за облыжные обвинения Вельяминовых, а до того разбирал по грамотам споры тверских князей, племянника с дядей, Всеволода с Василием Кашинским, намереваясь вызвать обоих во Владимир на владычный суд), долго не мог взять в толк, зачем и к чему приволокся к нему этот смешной попик, пока наконец тот вполголоса не вымолвил главного: дело совершилось третьего февраля днем, тотчас по убийстве тысяцкого, а сын этой женщины-вдовы служил в дружине Алексея Петровича Хвоста.
Алексий поднял на попика темный взор. Вопросил имя ратника, повторил про себя, запоминая. Потом строго повелел попику забыть обо всем сказанном и никому, ниже и попадье своей, о том не баять ни слова. Отпустив попика, он откинулся к спинке кресла, прикрыл глаза и задумался, отдыхая. Преступник, кажется, был найден. Никита, сын Мишуков, внук Федоров. Следует не торопить события и прежде уведать все об отце и деде этого ратника, а также о нем самом. Дружинник Хвоста?! Покойный Алексей Петрович, надо отдать ему должное, слуг имел верных! Алексий позвонил в колокольчик, вызывая келейника.
К утру он знал все. И то, что Мишук, отец убийцы, был тот самый ратник, коему он сам помог когда-то стать иноком Богоявленской обители, что дед, которым постоянно гордится Никита, называющий себя Федоровым, был ближним человеком двух князей, что двоюродный дед Никиты был опять же мнихом и келарем Данилова монастыря и что, самое главное, убийца совсем не являлся искони хвостовским ратником, но перешел на службу к Хвосту после того, как последний получил тысяцкое, а допрежь того был старшим в дружине Вельяминова и почти возлюбленником Василь Василича. Узнавши последнее, Алексий поморщился, Василий Вельяминов, выходит, обманывал его и весь боярский синклит с самого начала!
Назавтра, после вечерни, он велел привести, без великой огласки, поименованного ратника к себе, в митрополичий покой.
Никита, уведавши, что его призывают к митрополиту, не то что обрадовался (радоваться мало было чему!), но почуял, что вот он, подошел наконец хоть какой исход его затянувшейся муке. Передавши Матвею дружину (втайне уже и не надеялся он увидеть своих иначе как на Болоте, с помоста, в час казни), он, помедлив и прочтя в глазах Дыхно ответное чувство, крепко обнял друга и троекратно облобызал. Потом легко кивнул случившимся около ратным и пошел, посвистывая сквозь зубы, независимою походкой человека, коего зовут за делом, но уж никак не на расправу или суд.
Лишь на дворе, покинувши молодечную, он остоялся, обведя взглядом оснеженный синий вечер, мохнатые свесы кровель, узорные ворота, резные столбы гульбищ и крылец в сложной перевити трав, птиц и языческих змеев и островатые кровли башен с коваными прапорами на них – всю эту привычную, а сейчас остро бросившуюся в очи рукотворную красоту, глянул в молчаливо замкнутые лица двоих владычных послушников, широких в плечах и могутных, подумав, что такие, заартачься, могут и на руках донести, вздохнул и, свеся голову, твердым шагом двинулся к месту своего судилища.
Они обогнули Успенский храм и поднялись по ступеням владычных хором не с главного, а с бокового хода. Отворились одни и вторые двери. Молчаливые провожатые передали Никиту с рук на руки придверникам, которые повели его по долгому проходу и по лестнице, и еще в двери, и в новые двери опять (и он уже потерял счет лестницам и покоям), и наконец открылись последние двери и он очутился в небольшой горнице, весь правый угол которой занимала божница, более похожая на иконостас, жарко горящая золотом в свете многочисленных свечей и лампад. Огромные иконные лики строго глянули на Никиту, словно живые. Он огляделся, не сразу увидя того, к кому шел. Алексий сидел в кресле, положив руки на подлокотники, в дорогом облачении и белом клобуке. Темно-внимательный взор митрополита был строг. Никита, оробев и почувствовавши слабость в ногах, опустился на колени и так простоял во все время разговора.