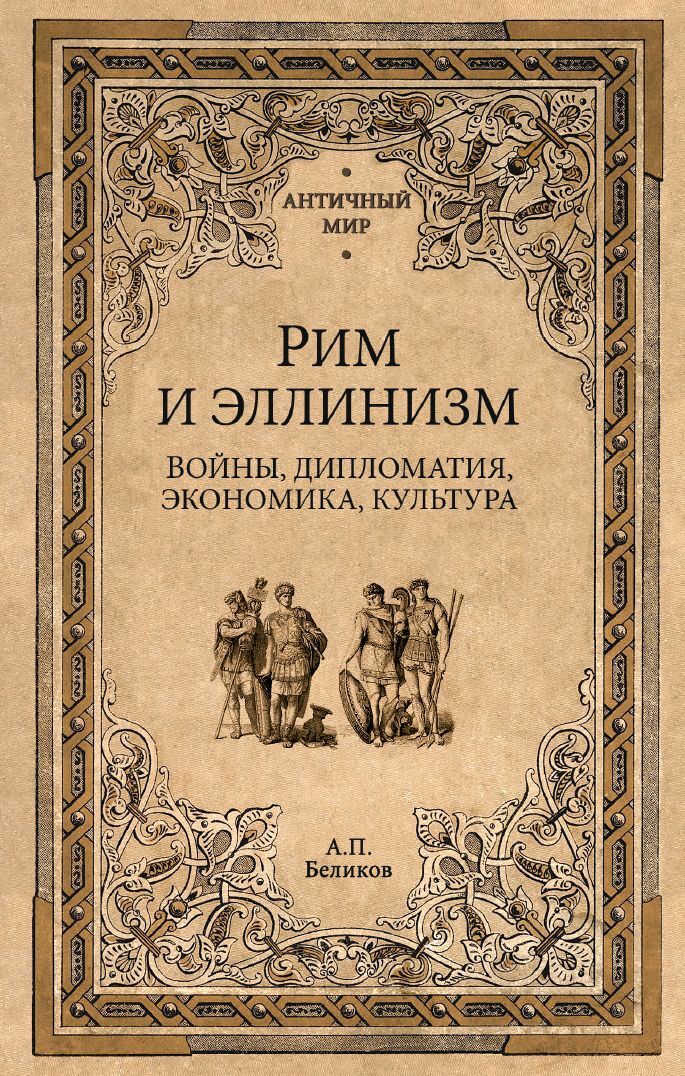что римляне не хотели аннексировать страну [1260]. Присоединить Грецию не было возможности, более того,
не было и установки на это. Истмийская декларация разрешила сразу несколько проблем: успокоила греков, привязала их к Риму, обезвредила пропаганду этолийцев, обеспечила тыл для войны с Антиохом. Объяснять её желанием отблагодарить греков за помощь в войне невозможно. В Греции, как и в любом другом месте, эгоистическая римская политика определялась только его интересами [1261]. Для сената «освобождение» было определённым этапом его восточной политики [1262].
Нельзя, однако, считать, как полагал А.Б. Ранович, что римское заявление имело только «лицемерный характер» [1263]. Элемент искренности, конечно, был. Греция действительно стала свободной от налогов, дани, гарнизонов. Эта, экономическая, свобода была реальной, а не той свободой-автономией, означавшей не платить налоги или не содержать войска, которой пользовались некоторые города эллинистического Востока. Но лишь потому, что благо для греков было выгодно и римлянам, греки получили его. Для римлянина нравственное отождествляется с полезным [1264]. Римская политика и национальные устремления греков сошлись в одной точке – обе стороны хотели утверждения традиционного сепаратизма [1265]. Сенат понимал, что свободная и раздробленная Греция будет бессильной.
Много спорят, что же Рим понимал под свободой. Прежде всего – свободу от Македонии [1266]. Фламинин освободил греков, «поскольку они находились под господством македонян» [1267]. По внутренним римским понятиям свобода означает отсутствие царской власти или доминирующего господства [1268]. В этом плане libertas не является точным синонимом греческого понятия «элеферия». Заметим, что сами греки для обозначения политической независимости использовали совсем другое слово – «аутономия». И в этом смысле (освобождение греков от царской власти) римляне были предельно искренни. Но они же чётко понимали, что греки никогда не будут свободны от римского доминирования. Рим воевал за влияние в Греции, которое теперь неизмеримо возросло. Освобождение от Македонии римляне осуществили в своих интересах [1269]. Оно логично вытекало из официальной мотивировки войны. Смысл «освобождения» Греции был политическим и пропагандистским, но отнюдь не морально-этическим. В данном случае важнее оказывается даже не смысл акции, а её перспектива. «Свобода», временный этап римской политики, оказалась впоследствии фикцией [1270]. Обладание ею целиком зависело от воли Рима, который присвоил себе верховный протекторат над Грецией [1271]. Иллюзорная свобода – метод регулирования статуса «сдавшихся» государств [1272]. Нельзя согласиться с И.В. Нетушилом, считавшим «свободу» равнозначной независимости [1273].
Целью римлян была не «свобода Греции», как довольно наивно полагал Т. Моммзен [1274], а ослабление хозяина освобождённых. Рим добился разложения македоно-эллинской монархии путём освобождения эллинских городов [1275]. Политика под лозунгом «свободы» выполняла две основные функции: 1) средства борьбы с врагами, претендующими на территории, входящие в сферу римских интересов; 2) пресечения экспансионистских устремлений союзников [1276].
Нельзя, однако, сводить всё лишь к этим двум задачам. Начиная с 228 г. до н. э. поведение Рима часто определялось желанием понравиться грекам [1277]. Успешнее всего этого можно было достичь, выступив борцом за общегреческое дело [1278]. Такая политика могла привлечь к Риму не только балканских греков, но и подданных Антиоха, что было особенно важно, учитывая возможное столкновение с ним.
Сенат прекрасно владел методами политической пропаганды, то есть «искусством идейно-психологического воздействия на ум и чувства людей» [1279]. Он умел творчески перерабатывать чужой опыт, используя и собственный. Очевидно, традиции эллинистических царей были ему хорошо известны. Коринфская лига Филиппа II также представляла собой освобождение-подчинение: разбитые полисы оставались свободными, но вошли в лигу под гегемонией Македонии. Таким образом, Филипп II «освободил» их… от себя самого! Здесь «свобода» была средством создания союза, формой непрямого господства. Внутренняя автономия сочеталась с ориентацией внешней политики в интересах гегемона [1280]. Такую же политику проводил и Антигон Гонат. И Полисперхонт обещал установить свободу городов, то есть вернуть им автономию, если они встанут на его сторону [1281].
Затем и другие враждующие полководцы начали объявлять греческие города свободными [1282]. Птолемей использовал это против Антигона Гоната (Polyb. XV.24; Diod. XVIII.55, XIX.61), Филипп V – против Этолии [1283], на роль освободителя претендовал Пирр (Plut. Pyr. XXVI.7). Эллинистические монархи с «монотонной регулярностью» [1284] освобождали греческие города друг от друга [1285]. Преимущества получал тот, кто давал полисам ряд привилегий [1286], но осуществлял над ними полный контроль [1287], акцентируя внимание на своих «благодеяниях». Македонские цари, наложившие руку на Грецию, с неменьшим фарисейством считали, что они освободили греков от олигархии или крайне демократических эксцессов [1288].
Сказались и опыт Иллирийских войн, и память о политике Ганнибала, лозунгом освобождения от Рима привлекшего к себе галлов и италиков. После самих римлян, Антиоха, Персея такую политику успешно проводил Митридат. «Освобождения» ради освобождения не было никогда, разные силы лишь использовали его в своих целях.
Для самого римлянина понятие свободы было неразрывно связано с исполнением долга [1289]. Libertas – это не безграничная свобода до анархии, а единство прав и обязанностей. В её основе лежала консервативно-аристократическая дисциплина [1290]. Свобода не абсолютна, а всегда относительна, она обязательно соотносится с общественными интересами [1291], а римская libertas вообще не является точным эквивалентом современного слова «свобода» [1292]. Рим считал, что имеет моральное право требовать от греков помощи в войне и подчинения. Нельзя упрекать римлян в лицемерии, они могли искренне верить, что несут грекам именно такую «свободу». Рим автоматически стал патроном Греции, что было обычным и «правильным» в социальной жизни римской общины. Полисы получили свободу государств-клиентов. Они были свободны вести дела так, как желал Рим, а сама «свобода» являлась замаскированным вассалитетом [1293].
Попытки приписать заслугу освобождения Греции одному Фламинину, называя побудительным мотивом его филэллинство [1294], просто наивны. Поклонение консула всему греческому весьма проблематично. «Под всей этой утончённостью и изысканностью таились железная натура римлянина, хитрость, безжалостность, жестокость» [1295]. Римский ум, облечённый ли в иностранные одежды или нет, всегда был сконцентрирован на своём государстве и народе [1296]. Жёсткая политика Фламинина к «врагам» не даёт оснований считать его сентиментальным. Неслучайно Ахайя, претендующая на независимость, – объект «постоянных дипломатических диверсий» проконсула [1297]. Он демонстрировал филэллинизм, потому что был убеждён: это соответствует римским интересам [1298].
Фламинин настаивал на освобождении, исходя из соображений политического момента. При всём его честолюбии невероятно, чтобы он «заботился о славе больше, чем об отечестве» [1299]. Исследователи, считающие главным филэллинизм, просто упрощают и обедняют ситуацию, замалчивая сложное положение в Греции, беотийский кризис, недружелюбие греков, продвижение Антиоха… Нельзя вырывать событие из контекста явлений! Если консул и