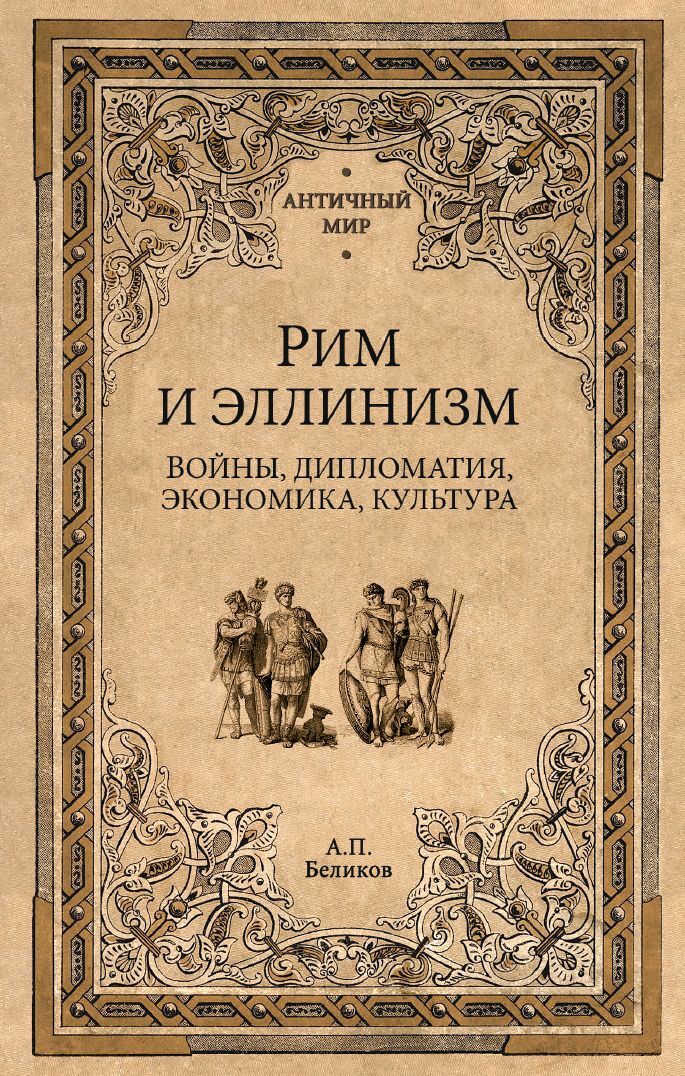долга. Римский магистрат, служа республике, мог быть приверженцем иного государственного строя [1320]. Здесь нет ни тени лицемерия или двойных стандартов, это принцип жизни: выполняя свой долг перед отечеством, квирит и подумать не мог, что оно сочтёт нужным лезть в его душу, сердце или разум. Следы именно такого внутреннего восприятия отношений «личность – государство» в какой-то мере сохранились даже в ранней Империи. Как напыщенно и несколько категорично сформулировал А.Н. Маркин, благодаря открытому и независимому образу мысли аристократ мог создать для себя самого и своих товарищей ограниченное, но, без сомнения, действительное пространство свободы [1321].
Внутренне гражданин был свободен, но без всякого контроля сверху всегда однозначно ориентировался на благо республики. Римляне всегда разделяли свою личную и государственную деятельность, личность могла млеть от греческой культуры, но решения сената основывались только на интересах государства [1322].
Когда для политики это было всё равно, филэллинизм проявлялся. Свидетельствует это больше об интересе к греческой культуре, а не к самим грекам, которые почти ничего не получали от этих его проявлений. Там же, где эти «благодеяния» связаны с политикой («освобождение», отдельные льготы), они всегда вызывались именно политической необходимостью. Фламинин в таких случаях выступал не как частное лицо, а как магистрат, действующий в интересах государства. Представляясь другом греков, он, «искусно льстя их национальному тщеславию, пользовался их слабостями» [1323].
Суммируя, мы должны признать, что в реальной политике филэллинизм никак не проявлялся. Римляне не позволяли филэллинизму быть фактором их политики [1324]. Это конечный вывод Э. Грюэна, посвятившего целую главу [1325] данному аспекту. Тем более нет никаких оснований считать, что Греция своим «освобождением» обязана филэллинизму как политическому течению. Жёстко, но справедливо сформулировала Э. Роусон: «Старая идея, что филэллинизм влиял на политику Фламинина или Сципионов, неправдоподобна» [1326]. Дело не в симпатиях нобилей, а в конкретной политической ситуации и принципах римской политики.
Сразу же после «освобождения» римляне занялись «устроением» Греции, произвольно перекраивая границы. Фессалии передали Фтиотидскую Ахайю (Polyb. XVIII.47.7), ранее объявленную свободной (Polyb. XVIII.46.5). «Свободные» Фокида и Локрида были возвращены Этолии (Polyb. XVIII.47.9). Эгину оставили Пергаму. Сенат ничуть не смутило, что греки Эгины оказались вне дарованной всем свободы. Более того – комиссия десяти присудила Орей и Эретрию Эвмену, но Фламинин с трудом убедил их не компрометировать политику «освобождения» столь явно (Polyb. XVIII.46.16). После Сирийской войны в Малой Азии реальную свободу получили лишь те города, которые помогали Риму против Антиоха. Вскоре даже самые наивные греки утратили иллюзии, связанные с «освобождением» и альтруизмом римлян. «Истмийская истерия» довольно скоро стала угасать [1327]. Квириты же должны были считать греков неблагодарными, поскольку освободили их от господства Филиппа V и посему, с точки зрения сената, вправе были рассчитывать на их лояльность. Это существенно испортило взаимовосприятие друг друга эллинами и гордыми «сынами Марса». Отсюда следует проблема их взаимного восприятия.
Но сначала – несколько слов о проблеме «квирит как homo ethnicus».
Сам по себе вопрос настолько насыщенный, сложный и многогранный, что это скорее постановка проблемы, чем попытка её решения.
В необъятном море историографии есть темы, не удостоенные, на наш взгляд, детальной разработки. Изучение внешней политики сводится зачастую лишь к дипломатии, войнам, сражениям и экономической подоплёке событий. Роль этнопсихологических факторов во всем этом обычно игнорируется. Мало исследований об этническом самосознании древних римлян, восприятии ими других народов, значимости «национальных» признаков для римской аристократии. Не разработана проблема «этнической динамики» Рима даже в плане её наличия или отсутствия.
1. Этническое самосознание римлян имело довольно специфический оттенок. Для них гражданство и «национальность» совпадали. Римлянин – гражданин Римского государства. При этом гражданская принадлежность имела приоритет над этнической. Корни такого восприятия, видимо, лежат в глубокой древности, когда произошло слияние римско-латинской и сабинской общин. Для римлянина государство превыше всего, оно и являлось определяющим детерминативом.
Легенда об объявлении Рима священным убежищем, очевидно, отражает реальный процесс стекания в город «инонациональных элементов». Чужаки вливались в гражданскую общину и становились своими. Неслучайно даже в нобильских родах есть этрусские, сабинские и прочие «фамилии».
С другой стороны, латины, одной крови и одного языка с римлянами, таковыми никогда не считались. Только получив гражданство, латинянин легко становился римлянином. Можно предположить, что после завоевания Италии дарование гражданства сильно сократилось: исчезла необходимость «стимулировать» союзников и пополнять редеющее в войнах число граждан. Гражданская община «замкнулась», что и стало главной причиной Союзнической войны.
2. Пожалуй, римляне – единственный в мире этнос, который так значительно пополнялся бывшими рабами. Либертин квирита автоматически становился гражданином. Другое дело – второсортным, фактически и даже официально ограниченным в правах. Однако уже третье поколение либертинов считалось «чистыми римлянами» и ничем не отличалось от свободнорождённых.
Пополнение римского этноса чужой кровью происходило непрерывно и в больших масштабах. Два факта: Сципион бросил толпе на форуме упрёк в том, что многих из них он привёз в Италию в цепях; позже – обсуждение в сенате, должны ли либертины внешне отличаться от квиритов, и решение: нет, нельзя, чтобы они увидели, как их много!
«Этническая динамика», несомненно, имела место. Отсюда две проблемы: 1. Равнозначны ли понятия «квирит» и «гражданин»? Рискнём предположить, что нет. Римскими авторами поздней Республики «cives» употребляется чаще. Не означает ли это, что интеллектуальная элита осознавала, насколько римляне стали уже больше гражданами, чем квиритами? 2. Как эта динамика повлияла на этнос? Раскритикованные в отечественной науке мнения, что раболепие сенаторов перед императором во многом объясняется их рабским прошлым, что римляне Империи и Республики – генетически разные этносы, представляются нам не столь уж абсурдными. Рабская кровь в виде рабской психологии генетически и психологически может сказываться на протяжении нескольких поколений.
Столь большая порция рабской крови, впрыснутая в вены трудолюбивого квирита, могла ли пройти бесследно? Думается, нет. Это плюс гибель многих нобильских родов, сгоревших в пламени гражданских войн и проскрипций, должно было изменить саму генную структуру этноса, что сопоставимо лишь с «генетической катастрофой» советского народа в 1930—1950-е гг.
3. Обычно отмечают, что к одним народам римляне относились лучше, к другим – хуже. Правда здесь лишь в том, что лучше – к отдалённым народам, с которыми почти не контактировали и совсем не воевали (эфиопы, индийцы). Ко всем остальным – примерно одинаково, с некоторым высокомерием. Нет оснований утверждать, будто к грекам относились лучше, чем к иберам, а к галлам, например, – хуже, чем к египтянам. Правда, на бытовом уровне можно констатировать негативное восприятие пунийцев (понятно, почему) и евреев (слишком замкнутый и необычный этнос, который римляне к тому же довольно плохо знали).
Представляется, что во внешней политике этнический фактор почти не действовал. Определяющим было сочетание гражданского и юридического