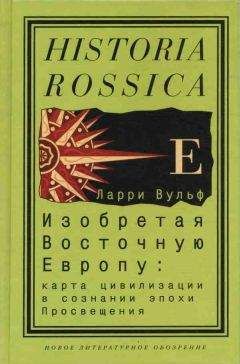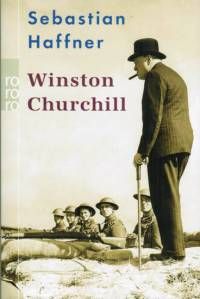Надежды Дидро на Москву тоже были частью его мечтаний, поскольку сам он никогда не бывал в этом городе. «Я упустил возможность посетить Москву и немного сожалею об этом», — писал он позднее. «Петербург — это лишь императорский двор, и там в одну кучу смешались дворцы и хижины». В типичной манере своего века, его собственное замешательство превратилось в хаотичность самого города. Он признавался, что «едва ли видел что-либо, кроме самой государыни»[586]. Но если он видел лишь государыню, как мог он говорить с ней о России? Что мог он знать? Завершая свое собрание «бесед», он умолял ее извинить его «мечтания» и поздравлял с «освобождением» от ребяческих «заиканий самопровозглашенного философа»[587]. На эпистолярном удалении философу было проще отстоять свои позиции в Восточной Европе. Заиканий не было, например, в переписке Вольтера, которая содержала много разговоров о путешествиях и поддерживалась волнением из-за того, что они постоянно откладываются.
Дидро покинул Санкт-Петербург в марте 1774 года; он предпочел распрощаться с Екатериной в письменной форме, курьезным образом предположив, что личное прощание будет слишком тяжелым для них обоих. Пока он был в России, он писал ей письма, так называемые «беседы», и отъезд возвращал их отношения в привычное эпистолярное русло.
Всю свою жизнь я буду поздравлять себя с поездкой в Петербург. Всю свою жизнь я буду напоминать себе о тех мгновениях, когда Ваше Величество забыло о разделяющей нас бесконечной дистанции и не побрезговало снизойти до меня, дабы скрыть мою ничтожность. Я горю желанием рассказать об этом моим соотечественникам[588].
Он уже готов был оставить Екатерину и вновь обратиться к беседам со своими соотечественниками-французами; это было вполне естественно, если учесть, что, даже беседуя с Екатериной, он то и дело обращался к своим землякам: «О, мои друзья!» Поскольку Дидро составлял свое прощальное письмо к Екатерине в одиночестве, вполне естественно, что обращался он к себе самому, поздравлял себя самого, напоминал себе самому. Он писал о том, что Екатерина снизошла до общения с ним, забыв о дистанции между ними, между императрицей и философом. Однако, проведя шесть месяцев в одном с ней городе, регулярно встречаясь и подолгу беседуя, он сам часто забывал об их географической близости. Вплоть до самого отъезда дух эпистолярных мечтаний отделял его и от Екатерины, и от России.
По дороге назад в Западную Европу Дидро предпочел и есть и спать в карете, не выходя из нее до самой Гааги. В Гамбурге он написал Карлу Филиппу Иммануилу Баху, представляясь ему и одновременно пытаясь вновь обрести свою временно оставленную идентичность:
Я француз; меня зовут Дидро. Я пользуюсь некоторой известностью в своем краю как писатель; я автор нескольких пьес, среди которых «Père de famille», может быть, вам небезызвестна. Я еду из Петербурга[589].
Рига осталась позади, он оказался дома, в Западной Европе, и снова стал самим собой. В письме из Гааги он рассказывал Екатерине о своем путешествии, снеге и холодах, сопровождавших его до самой Риги и сменившихся затем чудесной погодой. Он представил ей универсальную формулу для предстоящих ему разговоров:
«Ну, имели ли вы честь приблизиться к Ее Императорскому Величеству?»
«Без сомнения».
«Часто ли вы ее видели?»
«Очень часто».
«Великая ли она государыня?»
«Конечно великая»[590].
Он не мог, казалось, связать более двух слов в одно предложение и просил Екатерину простить ему затмение памяти: «О! Если бы я только мог вспомнить все, что я ощущал в присутствии Вашего Величества!» Центральный элемент его поездки, личные беседы с Екатериной, которые он так недавно обещал помнить всю свою жизнь, уже начинали исчезать из его памяти, оставшись, возможно, в Риге, где он вновь ощутил себя французом по имени Дидро, пользующимся некоторой известностью как писатель. Свое письмо он завершил очень эмоционально: «Вновь я омываю Ваши руки своими слезами»[591]. На самом деле он мог лишь омочить страницы своего письма; к тому же омочить ее рук он не смог даже в Санкт-Петербурге, поскольку прощание их тоже приняло форму письма.
В сентябре он все еще оставался в Гааге (в Париж он вернулся лишь в октябре) и написал Екатерине, поздравляя ее с Кучук-Кайнарджийским миром: «Что за мир! Что за славный мир!» Совершенно в духе Вольтера, Дидро восхищался «кончиком шпаги у неприятельского горла» и объявил себя счастливым, подобно «преданнейшим из Ваших подданных». Таким образом, он, возможно, напоминал и Екатерине, и себе самому, что, радуясь «как человек, как философ и как русский», на самом деле не был ее подданным. Подобно Вольтеру, он мог по своему желанию превращаться в русского, не становясь при этом подданным Екатерины; Карлу Филиппу Иммануилу Баху он уже подчеркнуто представлялся французом, возвращающимся из Санкт-Петербурга. Дидро надеялся, что заключенный мир продлится как можно дольше, и Екатерина сможет доказать, что способна не только одерживать военные победы: «Благодаря развитию разума, наше восхищение вызывают не те доблести, которыми обладали Александр и Цезарь». Оказавшись в Западной Европе, в безопасности эпистолярного удаления, философы Просвещения с большей уверенностью решали, кто заслуживает их восхищения. Дидро напоминал Екатерине о замыслах Петра, противопоставляя их состоянию своей собственной страны: «Вам предстоит придать форму юной нации; нам предстоит омолодить старую». Он предсказывал, что по достижении императрицей «некоторой степени совершенства» в деле преображения России ее ожидает признание всего мира: «Как раньше посещали Спарту, Египет и Грецию, так будут посещать Россию»[592]. Примечательно, что Дидро писал так, словно посещение России было делом утопического будущего и сам он только что не провел там шесть месяцев. Даже побывав в России, Дидро, подобно Вольтеру, воспринимал эту поездку как что-то воображаемое, планируемое, откладываемое и прямо-таки фантастическое.
В том же самом письме Дидро обещал, к удовольствию Екатерины, исправить в новом издании «Энциклопедии» статью де Жакура; одновременно он намекал, что и сама Екатерина, возможно, нуждается в исправлении. Так, он перечитывал ее «Наказ»: «Я взял на себя дерзость перечитать его с пером в руке»[593]. Впрочем, никаких критических замечаний за этой сознательной декларацией философской самонадеянности не следовало, и, получив в 1784 году, после смерти Дидро, приобретенные ею в 1765 году книги и бумаги, Екатерина, скорее всего, уже не помнила о его «дерзости». Среди этих бумаг была рукопись под названием «Замечания на Наказ Императрицы Всероссийской», ознакомившись с которой Екатерина осталась недовольна. «Это сочинение, — с раздражением писала она своему верному Гримму, — есть настоящий детский лепет». Именно в таких выражениях сам Дидро описывал свою ребяческую болтовню и заикания во время бесед с императрицей. «Он, должно быть, сочинил это по возвращении домой, — заключила Екатерина, — поскольку мне он об этом никогда не рассказывал»[594]. К 1787 году, когда она заговорила о Дидро с де Сегюром, было очевидно, что знакомство с посмертными критическими замечаниями совершенно заслонило ее воспоминания о визите философа. По ее словам, во время их бесед Дидро хотел все «перевернуть» в России, а существующие порядки «заменить неудобоисполнимыми теориями». Она уверяла, что ей едва удавалось вставить слово во время их бесед, так что «случайно зашедший очевидец принял бы нас двоих, его за строгого учителя, а меня — за почтительную ученицу». Он читал ей лекции по праву, государственному управлению, политике и экономике. Наконец, «говоря начистоту», она поставила Дидро на место:
Господин Дидро, я выслушала с величайшим удовольствием все, что внушил вам ваш блестящий ум, но со всеми вашими замечательными принципами, которые я отлично понимаю, можно сочинять великолепные книги и совершать дурные деяния. В своих реформаторских планах вы забываете разницу между нами: вы, вы творите лишь на бумаге, которая все стерпит; она гладка, податлива и не представляет препятствий ни вашему воображению, ни вашему перу; я же, бедная императрица, я творю на человеческой коже, которая, совсем наоборот, легко раздражима и чувствительна[595].
Вот что, как в 1787 году она говорила де Сегюру, она якобы сказала в 1774 году Дидро; несомненно, именно это она хотела бы сказать, увидев замечания об ее «Наказе». Однако из записки самого Дидро явствует, что во время пребывания в Санкт-Петербурге ему так и не хватило смелости наставлять Екатерину в законодательстве или политике и что самой смелой его фантазией был совет перенести столицу в Москву. Данная ему Екатериной отповедь была, скорее всего, апокрифом; она показывает тем не менее, что императрица прекрасно понимала стремление философов рассматривать Восточную Европу как поле для их «творчества», как абстрактное пространство, которое «не представляет препятствий» ни воображению, ни перу.