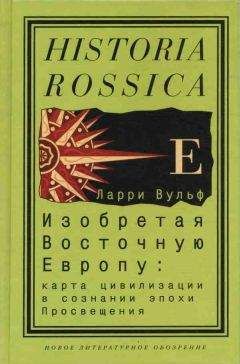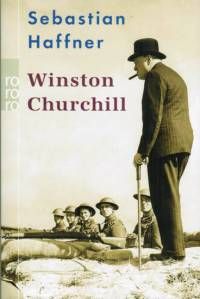Вот что, как в 1787 году она говорила де Сегюру, она якобы сказала в 1774 году Дидро; несомненно, именно это она хотела бы сказать, увидев замечания об ее «Наказе». Однако из записки самого Дидро явствует, что во время пребывания в Санкт-Петербурге ему так и не хватило смелости наставлять Екатерину в законодательстве или политике и что самой смелой его фантазией был совет перенести столицу в Москву. Данная ему Екатериной отповедь была, скорее всего, апокрифом; она показывает тем не менее, что императрица прекрасно понимала стремление философов рассматривать Восточную Европу как поле для их «творчества», как абстрактное пространство, которое «не представляет препятствий» ни воображению, ни перу.
Взявшись за перо сразу по возвращении из России в 1774 году, Дидро начал с замечания, что в политике единственным обладателем суверенитета является нация, а единственным источником права — народ. Далее он сообщил, что Екатерина — «деспот», и поставил вопрос: предполагал ли ее «Наказ» создание такого свода законов, после введения которого она искренне намеревается «отречься» от своего деспотизма? Конечно, он хотел бы затронуть этот вопрос в Санкт-Петербурге, но так и не осмелился, а теперь, наедине с самим собой, вообразил, будто находится в обществе женщины, которую он видел часто и недавно и которую ему не суждено никогда больше встретить.
Если когда она читает только что написанное мною и прислушивается к своей совести, сердце ее трепещет от радости, тогда она более не желает обладать рабами; если же она дрожит и кровь ее стынет, если она бледнеет, тогда она думает о себе лучше, чем она есть на самом деле[596].
В своих фантазиях философ желал сказать императрице правду, воззвать к ее совести, обезоружить ее, одержать почти сексуальную победу и оставить ее дрожащей или трепещущей. Екатерина, однако, прочла эти строки лишь после его смерти и отомстила ему в разговоре с де Сегюром, уверяя, что с самого начала раскусила его. То, что и Екатерине и Дидро пришлось дополнять свои многочисленные разговоры вымышленными беседами, показывает, сколь несвободны они были во время своих непосредственных встреч в Санкт-Петербурге.
«Россия есть европейская держава», — объявила Екатерина в своем «Наказе»; это было не просто констатацией географического факта, но программным политическим заявлением, в основе которого лежало «открытие» России веком Просвещения. «Неважно, — писал Дидро, — азиатская ли она или европейская», а что касается нравов в целом, они не могут быть «ни африканскими, ни азиатскими, ни европейскими», а лишь хорошими или дурными[597]. Дидро отвергал традиционные представления о континентальных культурных границах, поскольку неопределенность Восточной Европы плохо укладывалась в предложенную Монтескье дихотомию между Европой и Азией. С географической точки зрения екатерининский «Наказ» отмечал, что «Российская империя простирается на 32 градуса широты и 165 градусов долготы», подтверждая тем самым, что столь обширная держава нуждается в абсолютном монархе. Однако Дидро в своем комментарии полагал эти измерения фактором не политическим, а цивилизационным: «Цивилизование этой огромной страны вдруг всей сразу кажется мне проектом, выходящим за рамки человеческих сил». А потому он предлагал три совета, и первый, как и следовало ожидать, был перенести столицу в Москву. Кроме того, он предложил создать в России образцовый уезд, в котором можно было бы «исполнить план цивилизования». В предложении цивилизовать несуществующие уезды как в капле отразился век Просвещения, и Дидро пояснил предполагаемый эффект этого плана с помощью аналогии: «Этот уезд будет относительно остальной империи то же, что Франция в Европе — относительно окружающих ее стран»[598]. То, что Дидро представил Францию в роли главного источника цивилизации в Европе, показывает степень его культурной ангажированности. Он мог заявлять, что не делает различий между Африкой, Азией и Европой — но только лишь потому, что все три континента следовали одной и той же модели развития вслед за одной и той же образцовой страной.
Внимание, которое Дидро уделял России, не было столь всеобъемлющим, как вольтеровское видение Восточной Европы; Дидро, однако, был более амбициозен в философских обобщениях, предлагая на основании своих русских наблюдений универсальную схему отсталости и развития, причем развитие это осуществлялось по заранее разработанному плану. Третий совет Дидро — после перемещения столицы и основания образцового уезда — основать в России швейцарскую колонию[599]. Вольтер в переписке с Екатериной постоянно обращался к похожей фантазии, намереваясь основать поселение часовщиков в Астрахани или Азове.
«Ваш русский старик из Ферне»
В ноябре 1773 года в письме к Екатерине Вольтер сравнивал ту роль, которую он сам и бывший тогда в Санкт-Петербурге Дидро играли в Восточной Европе, с ролью Тотта в Константинополе и де Боффлера в Польше. «Мы не попадаем в плен как глупцы; мы не возимся с артиллерией, в которой ничего не понимаем», — объяснял Вольтер. «Мы — секулярные миссионеры, проповедующие поклонение Святой Екатерине, и мы можем похвастаться, что церковь наша вполне универсальна». Для Вольтера в Ферне культ Екатерины всегда оставался тождественным делу Просвещения в Восточной Европе. С другой стороны, Дидро по возвращении из Санкт-Петербурга ощущал потребность возносить саму Екатерину, хотя бы посмертно. Задача «секулярных миссионеров» была неопределенно двойственной: им надо было поклоняться Екатерине в Западной Европе и воспевать успехи цивилизации в Европе Восточной. Первое было вполне практическим проектом, не составлявшим для сановников Литературной республики никакого труда. Второе, однако, было более абстрактно-философским, задуманным на расстоянии, и развивалось как фантазия или даже фарс. Поклонявшиеся Екатерине, писал Вольтер, ждали ее крещения в Константинополе, «в присутствии пророка Гримма», а Мария-Терезия, учредившая в Вене комиссию общественной добродетели, могла совершить тот же обряд в Боснии или Сербии[600].
Однако именно в это время Екатерина была чуть менее восприимчива к игривым выдумкам, поскольку ее внимание было приковано к тяжелейшему внутриполитическому кризису ее царствования, народному восстанию под руководством казака Емельяна Пугачева, объявившего себя не кем иным, как ее покойным свергнутым супругом, императором Петром III. Дидро, кажется, имел лишь самое отдаленное представление об этих волнениях во внутренних областях империи, совпавших по времени с его пребыванием в Санкт-Петербурге. Однако в январе 1774 года сама Екатерина сообщила в письме Вольтеру, что некий «разбойник с большой дороги» разоряет Оренбургскую губернию, которую она описала как край татар и ссыльных преступников, подобных тем, которыми заселяли британские колонии в Америке; в 1774 году эти колонии также были на грани восстания. Что до самого Пугачева, то Екатерина заверила Вольтера, что «этот урод рода человеческого нисколько не мешает мне наслаждаться беседами с Дидро»[601]. В феврале Вольтер ответил ей в своей типичной манере, упомянув для начала очередное воображаемое путешествие: «Мадам, письмо, которым Ваше Императорское Величество оказало мне честь 19 января, мысленно перенесло меня в Оренбург и представило г-ну Пугачеву; кажется, что этот фарс устроен господином де Тоттом». Восточная Европа снова стала сценой фарса, где изобретательные пришельцы с Запада выдумывали действующих лиц и планировали мизансцены. Рассказ Екатерины об Оренбурге, расположенном к югу от Уральских гор, произвел на Вольтера большое впечатление, и воображение перенесло философа на восточную границу континента. На самом деле основные события пугачевского восстания происходили между реками Уралом и Волгой; эта территория сегодня считается европейской, но в XVIII веке ее часто относили к Азии. В 1774 году Пугачев спалил Казань на Волге, тот самый город, откуда в 1767-м Екатерина приветствовала Вольтера словами «вот я и в Азии»[602]. Если Дидро изобрел образцовый уезд, откуда просвещение распространится по всей Российской империи, то Вольтер представлял себе Оренбург как край наименьшего просвещения, «землю варваров», сконструированную на основании все той же модели развития. «Ваши лучи не могут проникнуть всюду одновременно», — писал он Екатерине. «Империя в две тысячи лиг длиной может сделаться цивилизованной («se police») лишь по прошествии времени»[603]. Самого Пугачева он отметал как обычную марионетку, порожденную воображением де Тотта. Ключом к пониманию мятежа против Екатерины и против цивилизации была для Вольтера именно культурная география Восточной Европы.