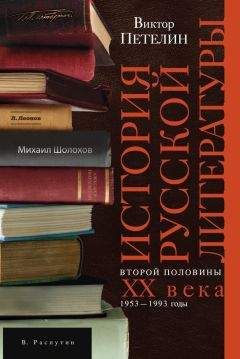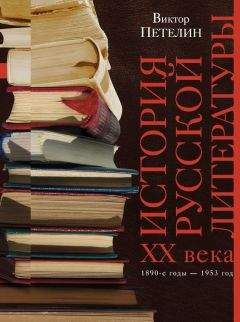Так получилось и с трагическим конфликтом Александра Половцева с семейством Островнова.
В первой книге романа Яков Лукич, как послушный сын, попросил у восьмидесятилетней матери благословения на борьбу с советской властью. Она его благословила. Но уже в конце первой книги говорила старухам, что у них живут два офицера, которые готовят восстание против безбожников. В начале второй книги пришли к матери Островнова четыре старухи и попросили их познакомить с офицерами, но та отказалась. Жена сказала об этом Якову Лукичу, который распорядился не давать ей еды и воды. Жена возмутилась, ведь он ей сын. И родная мать, услышав шаги Якова Лукича, думала только о хорошем, вспоминая его маленьким, повзрослевшим, хозяином. А теперь она зовёт его, он не отвечает. Так она и умерла от голода и без воды, «старая кожаная рукавица была изжевана её беззубыми дёснами». Больше всех плакал Яков Лукич. «И боль, и раскаяние, и тяжесть понесённой утраты – всё страшным бременем легло в этот день на его душу…» (с. 17). И плакал от боли, что трагическая жизнь заставила так бесчеловечно с матерью поступить. И он не раз осудит себя как человека, пошедшего под давлением не тем путем. А его сын? Если в первой книге романа Семён Островнов показан поверхностно, как эпизодическое лицо, только упоминавшееся как помощник Якова Лукича, то во второй книге он действует уже как индивидуализированное эпизодическое лицо, самостоятельно мыслящее и чувствующее. Распоряжения Якова Лукича он воспринимает остро критически, особенно за завтраком, когда Яков Лукич упрекнул всех, мол, напрасно оскаляетесь, «а скоро, может, плакать будете!». Яков Лукич даже замахнулся на сноху, когда она включилась в обсуждение хозяйственных вопросов. «Отцовская несдержанность развеселила Семёна: он скорчил испуганно-глупую рожу, подмигнул жене, а та вся затряслась от беззвучного смеха». Потом Яков Лукич опрокинул на себя миску с борщом. «Сноха, закрыв лицо руками, метнулась в сени. Семён остался сидеть за столом, уронив на руки голову; только мускулистая спина его вздрагивала да ходуном ходили от смеха литые лопатки» (с. 12).
В январе 1930 года в Гремячий Лог прибыл верховой и остановился у Якова Лукича Островнова. Когда узнал в верховом есаула Половцева, «испуганно озирнулся по сторонам, побледнел». Островнов вместе с Половцевым «всю германскую вместе сломали, и в эту пришлось», в Новороссийске расстались. После того как гостя угостили, начался серьёзный разговор. «Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно вспыхнувшей по хуторам борьбы, коловертью втянуло в события. С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат…» Яков Лукич рассказал Половцеву, что «жизня никак не радует, не веселит», в 1926 и 1927 годах налоги были «относительные», казаки стали богатеть, «а теперь опять пошло навыворот», «от этой песни везде слезьми плачут». Яков Лукич вернулся из отступа в 1920 году, оставив там всё своё добро, «работал день и ночь», а потом продразвёрсткой замучили, «и за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит… Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал… Стал я к агрономам прислухаться, начал за землёй ходить, как за хворой бабой… Я и зерно протравливал, и снегозадержание делал. Сеял яровые только по зяби без весновспашки, пары у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин и об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, словом, управления… Первые года сеял пять десятин, потом, как оперился, начал дюжей хрип выгинать: по три, по пять и по семь кругов сеял, во как! Работал я и сын с женой. Два раза толечко поднанимал работников в горячую пору. Советская власть энти года диктовала как? – сей как ни мога больше! Я и сеял, ажник кутница вылазила, истинный Христос». И красный партизан Андрей Размётнов тоже советовал сеять как можно больше, советской власти «хлеб зараз дюже нужен», а сейчас могут обкулачить за семь кругов. Никто пока в колхоз не вписался: «Кто ж сам себе лиходей?» – такова позиция Якова Лукича, изложенная Половцеву, который призывает объединяться и бороться с властью. Но Островнов сразу не решается на борьбу. После колебаний соглашается быть участником антисоветской боевой организации Союз освобождения родного Дона. Половцев посоветовал Якову Лукичу вступить в колхоз, после его «разумной, положительной» речи казаки сразу подали «тридцать одно заявление». А на другой день Яков Лукич угощал на деньги Половцева надёжных хозяев и говорил совсем «иное»: колхоз – это ярмо. Навербовал Яков Лукич около тридцати казаков. Но не учли Яков Лукич и кулацкий штаб одного: Никита Хопров хотя и входил в это число, но решительно возразил подыматься против власти, «в вашем деле я не участник», и ушёл. Перепуганный Яков Лукич позвал Тимофея Рваного и сразу пошёл к Половцеву, который, обозвав Якова Лукича «подлецом», решился на убийство Хопрова. С ужасом Яков Лукич смотрел на всё происходящее, хватал за руки Половцева, чтобы он не убивал жену Хопрова: «Мы ей пригрозим, не скажет!», но Половцев убил жену Хопрова. «Яков Лукич, шатаясь, дошёл до печки, страшный припадок рвоты потряс его, мучительно вывернул внутренности» (с. 92). 4 февраля 1930 года Яков Лукич стал членом правления колхоза. Как раз в это же время Яков Лукич начал убой скота, из семнадцати овец зарезал четырнадцать: «Советская власть Якову Лукичу и он ей – враги, крест-накрест», «Он не хочет, чтобы мясом его овец питался где в фабричной столовой рабочий или красноармеец». Одновременно с этим к Якову Лукичу приходит Давыдов и радуется словам Якова Лукича, он предлагает по-новому вести хозяйство, показывает «похвальный лист» и «агрономовский журнал», который с радостью берёт с собой Давыдов: «Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню! Умный мужик, дьявол, начитанный. А как он знает хозяйство и землю! Вот это квалификация! Не понимаю, почему Макар на него косится. Факт, что он принесёт колхозу огромную пользу!» – думал он, шагая в сельсовет» (с. 106).
Доверчивый Давыдов поверил Якову Лукичу, узнав только одну сторону его характера и его деятельности. Вскоре узнает и о второй черте его характера и его деятельности, как только Яков Лукич, как завхоз, велел посыпать песком воловню, после этого двадцать три быка не смогли встать с пола, «некоторые поднялись, но оставили на окаменелом песке клочья кожи, у четырёх отломились примёрзшие хвосты, остальные передрогли, захворали». Дежуривший на конюшне Молчун сказал о песке в воловне: «Выдумляет, сукин сын!», а Любишкин просто разъярился, узнав про песок. Но Давыдов уговорил его, дескать, надо по-новому хозяйствовать, «Островнов правильно сделал. Безопасней, когда чисто: заразы не будет». Узнав о последствиях выдумки Островнова, Давыдов приказал ему сдать дела, судить грозился за вредительство, а потом отмяк: «Нет, Островнов – преданный колхозник, и случай с песком – просто печальная ошибка, факт!» (с. 161). И виноватый Давыдов просто просил прощения у Островнова и продолжал своё дело. «Раздвоенной диковинной жизнью жил эти дни Яков Лукич. С утра шёл в правление колхоза, разговаривал с Давыдовым, Нагульновым, с плотниками, бригадирами. Заботы по устройству базов для скота, протравке хлеба, ремонта инвентаря не давали и минуты для посторонних размышлений. Деятельный Яков Лукич неожиданно для него самого попал в родную его сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности, лишь с тою существенной разницей, что теперь он мотался по хутору, в поездках, в делах уже не ради личного стяжания, а работая на колхоз. Но он и этому был рад, лишь бы отвлечься от чёрных мыслей, не думать. Его увлекала работа, хотелось делать, в голове рождались всякие проекты. Он ревностно брался за утепление базов, за стройку капитальной конюшни, руководил переноской обобществлённых амбаров и строительством нового колхозного амбара; а вечером, как только утихала суета рабочего дня и приходило время идти домой, при одной мысли, что там, в горенке, сидит Половцев, как коршун-стервятник на могильном кургане, хмурый и страшный в своем одиночестве, – у Якова Лукича начинало сосать под ложечкой, движения становились вялыми, несказанная усталь борола тело…» (с. 158). Яков Лукич оказался в драматическом положении, о котором мало кто догадывался.
Не понравился Островнову новый жилец, Вацлав Августович Лятьевский, нахальный, смелый, который тут же стал приставать к снохе. Сноху он поучил ременными вожжами в сарае, а Лятьевского стал опасаться. Лятьевский прямо сказал Островнову, что ему и Половцеву деваться некуда, «мы идём на смерть», а зачем ему-то восставать: «Эх ты, сапог!», «Хлебороб и хлебоед! Жук навозный!», по словам Лятьевского, Островнов в ответ сказал:
«– Так житья же нам нету! – возражал Яков Лукич. – Налогами подушили, худобу забирают, нету единоличной жизни, а то, само собою, на кой вы нам ляд, дворяны да разные подобные, и нужны. Я бы ни в жизню не пошёл на такой грех!