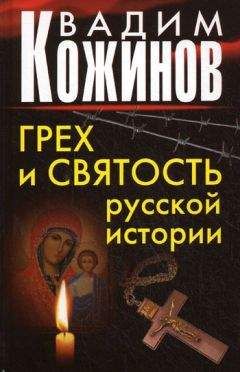Это новое течение складывалось во враждебной ему среде. С одной стороны – подозрительное отношение представителей официальной идеологии. Очень ярким свидетельством давления, с другой стороны, была «дискуссия о славянофилах», начатая А. Яновым – тогда партийным автором из «Молодого коммуниста», а позже – эмигрантом, советологом и антикоммунистом. В своей статье Янов, то ли по неосведомленности в предмете, то ли чтобы придать статье сенсационность, заявляет, что явление славянофильства совершенно не исследовано, «остается белым пятном», «терра инкогнита» истории нашей общественной мысли». Причина, по его мнению, – в неразгаданности некоторой загадки: славянофилы боролись против крепостного права и духовного гнета, им отдали должное Герцен, Белинский и Чернышевский. Но эта драматизация нужна была Янову для того, чтобы ярче подать свою собственную «разгадку». Она заключается в том, что славянофилы страдали «религиозным поклонением простому народу», и это, несмотря на видимый демократизм, должно было привести их «в ряды черной сотни», что полностью проявилось, правда, только у их «последышей». Славянофильство и официальная охранительная идеология были лишь двумя вариантами националистической идеологии. В тезисном виде здесь уже содержится то, о чем в эмиграции Янов трубил во множестве книг и статей: «русская идея» реализуется в виде фашизма.
Статья Янова вызвала множество очень разнородных ответных статей. Так, сугубо партийный критик Дементьев сурово одергивает Янова, забывшего о классовом подходе: «Истинными защитниками подлинных интересов нации были революционные демократы». На этом фоне выделяется статья Кожинова. Он видит центральное ядро идеологии славянофилов в утверждении «самобытности исторических судеб и культуры русского народа – в сравнении и с Западом, и с Востоком». Эта очень древняя концепция выражалась еще в XI веке в «Слове о законе и Благодати» Илариона, в ней со славянофилами сходился Герцен, она была основой таких течений эмиграции, как «евразийцы» и «малороссы». Она была основой русской литературы XIX и начала XX веков. Самобытное русское мышление, как считает Кожинов, развилось на основе платоновской традиции, пришедшей из Византии с принятием христианства. Он цитирует Киреевского: «необозримое пространство» Руси «было все покрыто, как бы одною непрерывною сетью, неисчислимым множеством уединенных монастырей… Из них разливался свет сознания и науки во все отдельные племена и княжества». В те времена подобные мысли были совершенно новы для советского читателя. Они требовали не только интеллектуальной, но и чисто гражданской смелости.
В своих воспоминаниях «Бодался теленок с дубом» Солженицын описывает это неожиданно явившееся направление и говорит: «Словом, в 20-е – 30-е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в ГПУ да вскоре и расстреляли». В конце 60-х – начале 70-х залп был только литературно-критический. Но он был жестоким. Объединились в директивный «Коммунист» и ортодоксально-партийный «Октябрь», и «Новый мир», в котором причудливо соединялась верность марксизму-ленинизму и хрущевской «оттепели» (через Твардовского) с симпатиями к русской деревне. Точку поставила директивная статья в «Литературной газете» «Против антиисторизма» одного из руководителей Агитпропа ЦК А.Н. Яковлева, после чего редактор «Молодой гвардии» был снят с работы по распоряжению Брежнева.
Та же тема возникла (и вызвала такую же реакцию) в статье Кожинова «И назовет меня всяк сущий в ней язык…», появившейся в 1980 году. Я помню, что впервые узнал о ней из передачи радиостанции «Свобода». Автор передачи брызгал слюной и источал желчь. Понять можно было только одно – что статья сугубо антисемитская, в ней-де утверждается, что «во всем виноват жид». Тогда я еще наивно думал, что «антисемитизм» как-то связан с евреями, и был очень поражен, когда в статье даже ни разу не увидел этого слова. Но в то же самое время работу Кожинова в большой статье атаковали «Известия» – уже с партийно-марксистских позиций. Дальше нападки продолжались широким фронтом советской прессы. В результате редакция журнала «Наш современник», где работа была опубликована, подверглась «чистке». Работа, вызвавшая такой дружный отпор с самых разных сторон, была посвящена традиционной для Кожинова теме – проблеме самобытности русской литературы. Автор связывает ее со спецификой русской истории: редкой способностью русских уживаться с другими народами. И даже глубже: со спецификой русского православия. Первое проявление этого духа он показывает на примере «Слова о законе и Благодати» Илариона, а потом прослеживает его в идеях Чаадаева, Герцена, Достоевского. Он обращает внимание на принципиальное различие взаимодействия Западной Европы и России с античностью. В то время как первая столкнулась с умирающей античностью Рима (и сама способствовала его гибели), вторая долгое время была тесно связана с живой античной традицией Византии. Опираясь на мысль Гегеля, автор считает, что Запад развертывает свои возможности только из себя, в то время как русское развитие он понимает как ряд новых «рождений» или «воскресений» после самоотрицания.
На те же 60-е и 70-е годы приходится ряд работ Кожинова по его узкой специальности: литературоведению и литературной критике. Им написаны две книги, посвященные обеим основным темам литературоведения: «Как пишут стихи» (1970), переработанная в «Стих и поэзия» (1980), и «Происхождение романа» (1973). Скажу о первой из них. Наука, по словам Аристотеля, происходит от удивления. То есть импульс в ней дает осознание «удивительности», парадоксальности некоторого явления, которое всеми воспринимается как «само собою разумеющееся». Таковым является, безусловно, стих – этот загадочный сплав слова и музыки, передающий какие-то невыразимые иными путями истины. Интересно, что, казалось бы, такой «толстокожий» Маяковский почувствовал загадочность этого явления. Он говорит, что движущей силой стиха является «основной ритм-гул… Откуда он происходит – неизвестно». Объяснить его нельзя. Но он может быть так сложен, что для передачи его нужна вся жизнь поэта. (Ведь и Тойнби уверяет, что понимание истории заключается в осознании лежащего в ее основе ритма, отражающего ритм Космоса!) Книга Кожинова подводит читателя к этому основному вопросу: зачем пишут стихи? Конечно, это явление невозможно «понять так, как можно понять, например, устройство двигателя автомобиля. Но, рассматривая различные аспекты стиха: связь его формы, содержания и смысла, его место как элемента культуры определенной эпохи, смену различных поэтических школ, связь поэтической и человеческой судьбы поэта и т. д., – автор дает возможность почувствовать и осмыслить парадоксальный феномен стихосложения.
Литературоведение, обращенное к современности, приводит к литературной критике. В процессе осмысления текущего литературного процесса наиболее значительным, пожалуй, элементом является оценка появляющихся писателей. Тут работа критика похожа на труд золотоискателя. Открытие новых талантов, осознание их места в литературе, привлечение к ним внимания читателей в случае удачи оказывает громадное влияние на развитие литературы. Здесь роль Кожинова была исключительно велика. Так, он сразу отметил «дебют» Николая Рубцова, оказал значительную поддержку публикации его стихов в Москве (в журнале «Октябрь»), не раз писал о нем и посвятил его творчеству отдельную книгу. Таким же «открытием» Кожинова были поэты Передреев, Прасолов, Тряпкин, Лапшин. Он указал на то, что эти и другие примыкавшие к ним поэты определили название «тихой лирики» – в отличие от «эстрадной поэзии», к которой принадлежали тогда наиболее известные, гремевшие у нас и обласканные на Западе имена. Но он же отметил как новое явление, не укладывающееся в течение «тихой лирики», – стихи Юрия Кузнецова.
Им он посвятил ряд статей. Достоевский назвал Тютчева поэтом-философом. В какой-то мере эта характеристика относится также к Ю. Кузнецову, и работы Кожинова в основном посвящены раскрытию той философии, которая лежит в основе его поэзии.
Не меньшую роль Кожинов играл в оценке прозы 60-х и 70-х годов. Так, он откликнулся на одну из первых публикаций Шукшина. Его рассказы он отнес к тому подлинному искусству, к которому, по словам Толстого, из числа создаваемых произведений принадлежит лишь одно из ста тысяч. В том же году, когда появилось «Привычное дело» Белова, Кожинов посвятил статью этой повести, по его словам, «сопоставимой с классикой». И дальше Кожинов не раз возвращался к осмыслению течения «деревенской прозы» как нового взлета русской литературы, «цвета современной русской прозы», как раскрытие «какого-то особенного и необычайно важного смысла, выходящего далеко за пределы деревенской темы».
Десять лет спустя об этом направлении Солженицын сказал: «…такой ненадуманности, органической образности, вырастающей из самого народного быта, такого поэтического и щедрого народного языка… к такому уровню стремились русские классики, но не достигали никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой».