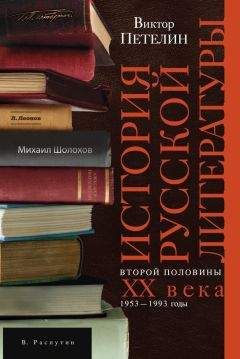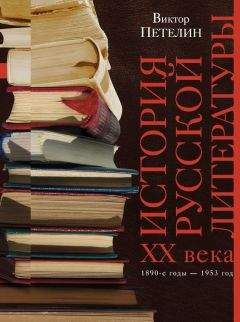«Прочитал стихи поэта Вознесенского, целую книгу (у Свиридова было много книг поэта, в данном случае предполагают, что он имел в виду книгу «Витражных дел мастер» (М., 1976). – В. П.). Двигательный мотив поэзии один – непомерное, гипертрофированное честолюбие. Непонятно, откуда в людях берётся такое чувство собственного превосходства над всеми окружающими. Его собеседники – только великие (из прошлого) или по крайней мере знаменитые (прославившиеся) из современников, не важно кто, важно, что «известные».
Слюнявая, грязная поэзия, грязная не от страстей (что ещё можно объяснить, извинить, понять), а умозрительно, сознательно грязная. Мысли – бедные, жалкие, тривиальные, при всём обязательном желании быть оригинальным… Пустозвон, пономарь, болтливый глупый пустой парень, бездушный, рассудочный, развращённый».
Досталось и Б. Пастернаку, который был известен как учитель Вознесенского: «Почему-то противен навеки стал Пастернак, тоже грязноватый и умильный» (Там же. С. 98).
О Б. Пастернаке и всей «элитной» площадной поэзии его последователей и учеников Георгий Свиридов высказал свои глубокие и серьёзные размышления, которые определяют их место в истории русской литературы. «Судьба коренной нации мало интересовала Пастернака, – писал Г. Свиридов. – Она была ему глубоко чужда, и винить его за это не приходится, нельзя! Он был здесь в сущности чужой человек, хотя и умилялся простонародным, наблюдая его как подмосковный дачник, видя привилегированных людей пригородного полукрестьянского, полумещанского слоя (см. стих. «На ранних поездах»). Россию он воспринимал, со своим психическим строением, особенностями души, не как нацию, не как народ, а как литературу, как искусство, как историю, как государство – опосредованно, книжно. Это роднило его с Маяковским, выросшим также (в Грузии) среди другого народа, обладающего другой психикой и другой историей.
Именно этим объясняется глухота обоих к чистому русскому языку, обилие неправильностей, несообразностей, превращение высокого литературного языка в интеллигентский (московско-арбатский!) жаргон [либо жаргон представителей еврейской диктатуры, которая называлась] диктатурой пролетариата. Пастернак был далёк от крайностей М[аяковского] – прославления карательных органов и их руководителей, культа преследования и убийства, призывов к уничтожению русской культуры, разграблению русских церквей. Но по существу своему это были единомышленники – товарищи в «литературном», поверхностном, ненародном. Оба они приняли как должное убийство Есенина.
Ныне – этот нерусский взгляд на русское, по виду умилительно-симпатичный, но по существу – чужой, поверхностный, книжный и враждебно-настороженный, подозрительный, стал очень модным поветрием. Он обильно проник в литературу, размножившись у эпигонов разного возраста. Популяризацией его является проза Катаева, поэзия Вознесенского, Ахмадулиной и Евтушенко (Гангнуса). По виду это – как бы противоположное Авербаху, Л. Либединскому. А по существу – это мягкая, вкрадчивая, елейная, но такая же жестокая и враждебная, чуждая народу литература… И пробуждения национального создания они боятся – панически, боятся больше всего на свете.
Они восприняли исторические события книжно, от культуры, через исторические ассоциации, параллели, которые давали возможность лёгких поверхностных выводов. Это делало их слепыми и глухими к жизни.
Первым из них прозрел и увидел катастрофичность своей ошибки Клюев потому, что он ближе всех был к жизни, к глубине её, вторым был Блок (см. Дневники, речь о Пушкине, «Пушкинскому дому» и т. д.). Третьим был Есенин. Маяковский же и Пастернак были «своими» людьми среди представителей еврейской диктатуры. Маяковский же был официальным поэтом этой диктатуры, и он пошёл до конца, пока не возненавидел всех на свете: злоба его, и раньше бывшая главенствующим чувством, достигла апогея» (Свиридов Г. Музыка как судьба. С. 310—311).
Литература должна быть правдивой, искренней, только в этом её общественная польза. В статье «В борьбе неравной двух сердец» Станислав Куняев, анализируя поэтические процессы, упоминает Анну Ахматову, которая внимательно следила за появлением молодых поэтов. О популярности среди либеральной интеллигенции имён Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского она скромно сказала, что они «эстрадники», а не поэты (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 3. С. 21). А «Струна» Беллы Ахмадулиной вызвала у неё резко отрицательный отзыв: «Полное разочарование. Полный провал. Стихи пахнут хорошим кофе – было бы гораздо лучше, если бы они пахли пивнухой. Стихи плоские, нигде ни единого взлёта, ни во что не веришь, всё выдумки, и мало того: стихи противные» (Там же. Т. 2. С. 496). В статье С. Куняева много современных мыслей об Анне Ахматовой, которая оказала огромное влияние на молодую женскую поэтическую струю, он приводит также высказывания её современников, которые резко отзываются о поэтическом «нутре» Ахматовой, называют её «вавилонской блудницей и разрушительницей», напоминают о глубоком высказывании А. Блока: «Она пишет стихи как бы перед мужчинами, а надо писать как бы перед Богом». Истоки поэтических увлечений молодой поэзии в том, что слишком приукрасили литературу Серебряного века и последовали за ней. С. Куняев говорит о «болезнях» многих его творцов. Первая болезнь – это тяга к самоубийству, и он перечисляет многих талантливых поэтов, покончивших жизнь самоубийством. Вторая болезнь – однополая любовь. С. Куняев пишет о «богохульстве», «экзальтированном кощунстве Серебряного века» как о «свидетельстве его богооставленности».
«Иногда мне кажется, – писал С. Куняев, – что на переломе двух веков в жизни просвещённых сословий Российской империи пышным цветом расцвели все человеческие пороки, накопленные в толщах истории. Революции, как волны, накатывались на страну одна за другой: антихристианская, антисемейная, антигосударственная, сексуальная, экономическая… И, конечно же, феминистская… Отнюдь не пресловутый «заговор большевиков» (и «заговор» тоже. – В. П.) разрушал социальные и нравственные основы жизни, а труды и лекции высоколобых интеллектуалов того же Серебряного века – С. Булгакова, А. Богданова, А. Луначарского, Н. Бердяева. Стены канонического православия начали обваливаться не только от богохульства Емельяна Ярославского и Демьяна Бедного, и во многом и от деятельности модных реформаторов христианства – Л. Толстого, В. Розанова, Д. Мережковского. Врубель с мирискусниками и Скрябин со Стравинским расшатывали традиционные основы русской живописной и музыкальной культуры.
Основы семейной нравственности и естественного узаконенного свыше отношения полов подвергались поруганию усилиями не только А. Коллонтай, И. Арманд, Л. Рейснер и прочих «пламенных фурий» (это, кстати, случилось позже), но и творческими изысками знаменитых поэтов и писателей обоего пола, чьи имена навечно вписаны в историю Серебряного века, который отнюдь не был продолжением и развитием века золотого, а, наоборот, был во всех своих ипостасях смертельным его врагом – «ущербным веком», как называл его Георгий Свиридов» (Наш современник. 2012. № 2. С. 207). А через несколько страниц С. Куняев приводит конкретный пример из жизни поэтов этого века, которые, естественно, не вошли в эту книгу: «Георгий Иванов и его друг Георгий Адамович («жоржики», по словам Анны Ахматовой) в 1921—23 годах снимали роскошную квартиру в центре Петербурга на Почтовой, 2, которая быстро превратилась в кабак, в притон для карточных игроков, спекулянтов и педерастов. В конце концов на квартире произошло убийство одного из завсегдатаев. Труп был расчленен и сброшен в Мойку, после чего Адамович, участвовавший в расчленении, срочно сбежал за границу. Где в это время был другой «жоржик», ЧК так и не выяснила. Скандал в нэповском Питере стоял страшный, о чём писала в марте 1923 г. «Красная газета». Всю последующую жизнь между двумя «жоржиками» шёл спор о том, кто и насколько замешан в этой мерзкой истории» (Там же. С. 217). Традиции Серебряного века стали путеводной «звездой» многих писателей.
Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и группа талантливых поэтов-эстрадников, считавшие себя «элитой» общества, на какое-то время оттеснили из первых рядов маститых поэтов, пострадавших и в концлагерях, и перенёсших фронтовые муки. Как-то в писательском доме творчества «Малеевка» собрались на товарищеские посиделки Светлов, Межиров, Алигер, Смеляков, Асеев, Уткин и начали читать стихи, свои и чужие. Принимал участие в этих посиделках и В. Солоухин, который оставил воспоминания об этом вечере: «Звучали профессиональные крепко сколоченные строфы, исторгая у слушателей разные степени одобрения и восторга. Причём, как это бывает, когда стихи знают и могут читать все собеседники, шла своеобразная эстафета… Надо полагать, что читались лучшие стихи и лучшие строфы». И приводит цитаты из этих стихов почти на две страницы своей книги. А потом, прочитав «проходной стишок Блока», делает заключение: «Но вот всё, что читалось, чудесным образом померкло, сникло и уничтожилось, словно электрическая лампочка, забытая с вечера, когда в окно уже ударило настоящее солнце.