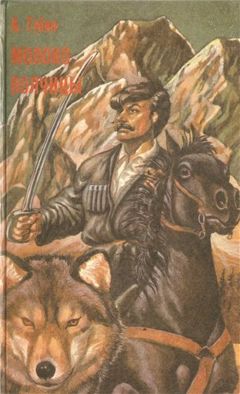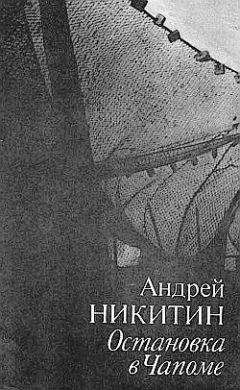Правда, у Горепекиной какие-то другие соображения о числе кулаков. Косится на нее председатель. Уже прямо говорит, что от таких людей партии урон. Но пока ее не выключили из комсода. Ждали — с минуту на минуту должен приехать особоуполномоченный по высылке из станицы вредных элементов. По времени должен вернуться из отпуска и секретарь горкома партии Быков. Но в десять вечера в стансовет прибыли начальник горотдела ГПУ Сучков, второй секретарь Овчинникова и другие члены комиссии по раскулачиванию.
Сучков сухо поздоровался с членами комсода и объявил, что проводить операцию назначен он, и показал инструкцию, полученную из края. Он сообщил, что Быков переведен на работу в порт Игарку.
Горепекина после отставки в горсовете считала себя обойденной, незаслуженно забытой, старалась угодить Сучкову. Тот, видя это усердие, поручил ей готовить списки кулаков, помимо стансовета. Горепекина решила вернуть себе авторитет беспощадной борьбой с кулачеством. На беду станичникам, кулаками она считала всех, кто не записывается в колхозы, а в первые дни записывались неохотно даже бедняки, не могли сразу отрешиться от вековечного уклада крестьянской жизни, который был хоть и труден, но обжит, понятен.
Известно, мудрость не плоды рабства, а цепи рабства падают не враз случается, звери не уходят из открытых клеток, а освободившиеся преступники тоскуют по своим камерам. Русские помещики из просвещенных и человеколюбивых строили своим крепостным крестьянам каменные деревни взамен убогих, смрадных, деревянных — крестьяне оставались в черных избах, а в новые дома ходили до ветра.
Некий просветитель привез крестьянам английский плуг — легкий, продуктивный — вместо тяжелой, маломощной, отжившей свой век сохи. Крестьяне испробовали плуг и признали его превосходство. Потом из толпы вышел дедушка, по-видимому, олицетворяющий национальную мудрость народа, и не без умысла спросил просветителя: «Откедова этот плуг?» — «Из Англии». «Хлеб англичане у нас покупают?» — «Да». — «А у кого будем покупать мы при эфтом плуге?» Смех деревни докатился аж до ушей батюшки царя, одобрившего отказ мужиков от плуга как здравое проявление истинно национального православного русского духа.
Прикинув по спискам комсодов, сколько в станице неколхозников, Горепекина доложила начальнику: кулаков в станице около пятисот дворов. Сучков, не советуясь с горкомом партии и стансоветом, сообщил эти данные в край, и цифра вернулась в станицу как непререкаемая инструкция, оспорить которую в станице не могли.
— Мне непонятно, — побелел предстансовета, — как определили число кулаков где-то в другом городе? Кто давал сведения?
— Мудруешь, товарищ Есаулов, — ответил круглолицый, спокойный Сучков. — Умнее партии и органов хочешь быть. Спущен нам план: раскулачить в первом потоке пятьсот дворов — и точка. Тебе же легче, если и ошибка, то не твоя. Яйца кур не учат.
— Ты партию сюда не замешивай. Партия сказала ясно: ломай хребет классовому врагу, организуй хлеборобов в колхозы. А может, у нас не пятьсот кулаков, а больше?
— Сколько?
— Наша комячейка подсчитала: двести тридцать семь.
— Плохо считали. По какому признаку?
— По скотине, батракам, хлебу…
— Партизанишь, орденоносец. Не знаешь классовую математику. Добавляй: дом под железом — раз, участие в белых — два, царская служба — три, родственники — четыре…
— В белых я не участвовал, а по трем признакам выходит, и я кулак — с меня и начинать! Казаки все служили царю — и против царя ходили. Титушкин богач, а хата у него под камышом, в белых не был, родственник комдив Золотарев. А у Синенкиных хата под железом — недавно покрыли, отец по дурости три недели атаманил!
— Классовый признак налицо.
— А это какой признак: Федька Синенкин красный пулеметчик, брат его Антон красный комендант, сестра коммунаркой была…
— Товарищ председатель, сколько у тебя в станице не вступили в колхоз? Около пятисот. Они и есть враги Советской власти. Другое дело, если крупный единоличник добровольно вступит в колхоз со всеми потрохами, его трогать не следует.
Намек, что ли, на Глеба? Но с Глеба Михей и начинал список. Одна тетка Михея поссорилась с сестрой, тридцать лет не разговаривала с ней, а умирая, выказала последнюю волю: чтобы сестра к гробу не подходила, «а то встану!». Та же кровь в Михее, та же в Глебе. Михей отходчив, но не в главном. Сколько мог, он нянчился с Глебом, теперь кончено.
— Я не согласен, товарищ Сучков, это беззаконие. Буду писать в крайком партии, а нужно, и до ЦК дойду!
— Твое дело, — сказал Сучков, — но запомни: срок одна ночь. Поскучнев, Сучков напомнил еще: — Признак пятый: организация контрреволюционных мятежей, эмиграция…
Михей дал телеграммы в крайком и в Москву. Но тем временем комиссия продолжила список, составленный стансоветом.
Спиридон Есаулов попадал по пятому признаку, но он отбыл наказание дважды, и Сучков вычеркнул его. Но вписать все же пришлось: Спиридон, донесли, оказал сопротивление, когда забирали хлебные излишки во дворе Глеба Есаулова.
Двести тридцать девятым пошел Аввакум Горепекин — дочь предложила выслать: верит в бога, хлеб прятал, служил в полицейской сотне.
Двести сорок: отец Илья — служитель культа.
— Монах Иона, в миру Дрюков.
— У него ни кола ни двора, — вступился Михей.
— Он из казаков, — сказала второй секретарь, миловидная женщина. Казачество враждебно в массе как класс.
— Нет, товарищ Овчинникова, — спорит Михей, — у Маркса такого класса не обозначено. Казаки — сословие. Родной папаша товарища Сучкова служил в конной жандармерии.
Записали. Туда же Маврочку Глотову: блудом действует, спирт домашний гонит, дом под железом.
— Наполовину под железом, наполовину под соломой, — сомневается Сучков, тайный любовник Маврочки.
— Враг и наполовину — враг! — режет Горепекина.
— Силантий Глухов — писать: религиозен, сын белоэмигрант — убийца Коршака.
— Петька Забарин — служил у Шкуро: писать.
Предложили выслать бывших красногвардейцев, которые после гражданской войны женились на женах погибших белых. Овчинникова против. Михей тоже, он объясняет:
— Жена человеку не родня, кровь разная. Жен менять можно, а детей, братьев, матерей не сменишь — это и есть родня.
— Писать: белогвардейских женок приветили!
— Может, тогда и Ваню Летчика писать? — вспылил Михей. — Пишите для счета! — Хлопнул дверью. Постоял в темноте, поговорил с белоногим своим скакуном, покурил — вернулся.
За ночь не управились. Утром мальчишка-рассыльный принес телеграмму из крайкома — раскулачить триста, а не пятьсот дворов.
Михей аж засмеялся: шалишь, товарищ особоуполномоченный, есть правда на земле!
Но и триста не набиралось по настоящему классовому признаку.
Активист Оладик Колесников громко выкрикивал старинные казачьи фамилии.
Записывали проявивших себя на деникинской службе.
Набралось еще несколько зажиточных, кулацких дворов, скрывающихся за невзрачными стенами хатенок под соломой.
Вновь брали амнистированных Коршаком в двадцать первом году донесли, что Советской власти они не радуются.
— А кто ей радуется? — брякнул во дворе стансовста богатый нищий Гриша Соса.
Взяли и его — не каркай.
Попали в список частные промысловики, пекари, сапожники.
Вписывали и толчь, до революции не наедавшуюся хлеба, но разжиревшую при нэпе.
Глеб Есаулов вписан один, без семьи. Оладик Колесников предложил:
— Высылать и Марию — пупок утонул в пузе! В золоте, ровно жидовка!
— А вы ей смотрели в пупок? — неожиданно зло спросила Клара Арамовна Овчинникова, и Оладика прогнали вон.
— Писать, конешно, — сказала Горепекина. — Дочь белого атамана, жена кулака, дом под цинком, трактор…
— Богатая биография! — согласились члены комиссия.
Тогда Михей рассказал, что Горепекина спасала от расстрела Глеба, и, возможно, не без выгоды, — бить так бить, решил Михей. Сучков вынужден был отстранить ее от работы, а бюро горкома партии тут же исключило ее из партии — преступление велико, Горепекина хлопала губами, слова пересохли, заплакала от обиды. Стала писать донос на всех сразу — и на Сучкова, и на Михея, и на Овчинникову.
Двести девяносто девятый номер заполнили — базарный сторож Серега Скрыпников, вспомнили: брат у него служил в волчьей сотне.
Михей уже не спорил.
Кого писать последним? Все боятся ошибиться на последнем номере, курят одну за другой, мотают головами, а сроки давно вышли, паровоз гудки подает.
За пятнадцать лет борьбы за Советскую власть, и все в первой шеренге, — устал Михей Васильевич. Может, где и легко переходили к новой жизни, но только не в казачьих станицах. Михею лично царь Николай золотил путы — сумел порвать. Много непокорных казачьих голов срубила шашка Михея. Многих красных товарищей проводил он последним залпом на Братском кладбише. А молодые деревца в сквере опять сломали станичники. «Мне служить еще, как медному котелку!» — бодрился председатель, а котелок-то уже истончился.