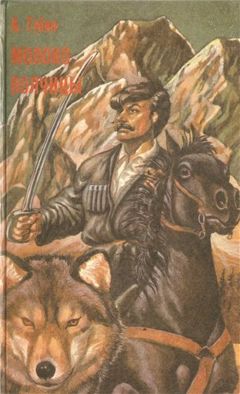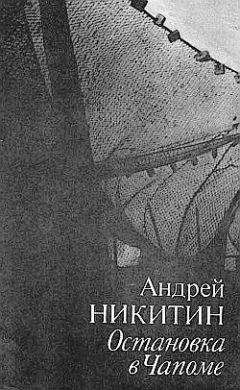Председатель Михей Есаулов рассмеялся так, что бывшие рядом с ним попятились от страха.
Михей Васильевич прискакал на место. Колесниковы заперлись, а двери железные. Михей Васильевич уговаривал бедняка не дурить, освободить дом. Оладик не сдавался, кричал, что он и нажил Глебу этот дом. Председатель приказал немедля выбраться «со всей требухой». Колесниковы замолчали.
— Ах, мать иху так! — вскипел председатель. — Вот как ты понимаешь колхоз! — И позвонил Сучкову.
— Выслать! — предложил страж закона. — Основание: кража колхозного имущества.
Это уже получался шестой признак. Трехсотый номер заполнился. Оладик попал в тот же эшелон, что и Мария. Более того, в тот же вагон.
В те дни вернулся из сумасшедшего дома Роман Лунь. Отца его Анисима забрали за вредную агитацию. Видя толпы ссыльных, позвал Роман христиан в новую пустынь, в благой Афон, от скверны мирской очиститься.
— Обновиться хочу! — кричал Роман, босой, синеглазый, подпоясанный цепью. — В Палестины свои возвращаюсь!..
Он вырезал себе дубовый посох, испещрил его «халдейскими» письменами, сменив отца на посту пророка, хотя по душе ему нравилось быть пустынником. Романа душила наследственная мания пророчества. Жар прорицателей и колдунов, упорство магов и кудесников, величие волхвов и волшебников, бесноватость шаманов вплеснулись в песенную душу казака, когда он еще мальчонкой прислуживал в Благословенной церкви. Родился он семимесячным, и Анисим пророчествовал над младенцем:
— До срока родился — до срока падет.
Рос тонким, болезненным, золотушным, с выпуклым лбом. И до срока все постигал. В пять лет он уже читал Библию — откровения святых апостолов, книги царей и судей израильских, послания пророков. Впоследствии книги светские, философские, научные называл камнями бесплодия, а Библию изумрудной нивой.
Отец, дядя Анисим, говорил о сыне:
«Трость книжника у него в руке. При поясе его прибор писца».
Жизнь Роман воспринимал как тяжкую трагедию, завершающуюся всеобщей гибелью. Часами лежал на полу Благословенной церкви — старухи считали его блаженным. Был постоянным посетителем Курортной библиотеки. Приезжие с удивлением смотрели на босого человека, в неизменном тулупе, подпоясанном цепью. Он читал Словарь. С иерога пугал читателей окриком:
— Брокгауз и Ефрон, том семьдесят пятый!
Было ему видение: ночью в степи встретил человека на б л е д н о м коне. С тех пор тянуло в степь, в горы. В возрасте Христа, тридцати трех лет, объявил себя Мессией — когда отряд ЧК взял их в Чугуевой балке, поэтому и попал в желтый дом.
Просыпаясь в крохотной угловой комнатушке, иногда видел Смерть, сидящую за его столом в черных латах. В свете дня призрак таял, на месте головы оставалась спинка готического кресла, бог знает как попавшего в казачье жилище, а плечи призрака превращались в бархатную подушку, привезенную Романом с войны. И он спешил — смерти недолго явиться и в белом, рабочем наряде, с косой. Торопливо писал «Книгу Смертей — Казачью Библию» — длинный в несколько саженей свиток, исписанный цветной тушью. Носил рукопись в редакцию местной газеты, его вежливо выпроваживали.
Вышла первая книга «Тихого Дона». Роман читал ее со слезами, собирал на базаре толпу, кричал, что вот украли у него сюжет, взятый Романом с жизни своей тетки Глашки, которая сварила мужа в банном котле из-за любви, и что Роман дойдет до самого главного и поставит обидчиков на правеж.
— Когда меня ранили, — пояснял Роман, — они и выкрали сюжет у меня в тороках.
Еще в сумасшедшем доме у него приключилась гангрена, антонов огонь, пришлось отрезать руку. В станице он впал в новый транс — отращивал ампутированную конечность. Был слух, что у кого-то нога отросла, а была отхвачена злодеями-хирургами под пах. Меряя культю веревочкой, Роман говорил, что рука у него растет.
Идея дома-крепости, панциря, скорлупы вселилась в младшего Луня, помнившего кизячный терем Анисима. Свез на тачке старые пни, камни, куски железа, битые бутылки и, подражая отцу, строителю, сложил во дворе чудовищную нору с потайными ходами. Перетащил туда книги и постель. В дальних отсеках обезьяньего жилища тлеют лампады. Бутылки Роман поставил искусно, горлышками на ветер, и дом устрашающе гудел на целый проулок. Рос старушечий ропот против новой жизни. Это был буйный философский протест обезьяны против человека. Стансовет постановил: противочеловеческое творение угасшего разума снести. И трактором развалили вертеп, вытащив упирающегося Романа.
И опять засадили его в сумасшедший дом.
В лечебнице он смирился, прилежно работал в саду одной рукой, смеялся над прошлыми своими безумствами. Врач, применявший к больным терапию любви, на праздники отпустил его домой, и он прибыл в самый разгар высылки кулаков.
Сидя в доме, он увидел всадника на коне Блед — мальчишка повещал на собрание. Лунь торопливо подпоясал тулуп, выскочил, бежал за всадником, на выгон, по бороздам и репейникам. Ударила гроза с молниями и громом. Музыка, шествия толп и гроза рождали в нем жуткую животную тревогу. Обезумев от страха, бежал и бежал к престолу земли, в сторону Белых гор…
Тело его нашли на третий день у Голубиного яра.
В пути заунывно кричал паровоз.
Поезд шел по Сибири. Тут еще стояли морозы. Серега Скрыпников, старый базарный сторож, после многодневного молчания рек:
— Хорошо на деревянной ноге — не мерзнет проклятая!
Спиридон Васильевич Есаулов не унывал — не впервой. После заключения он дал слово не воевать против новой власти, но власть продолжала воевать с ним. Как бывалый зек он стал в эшелоне старостой, подружился с караульными, курил их махру, подыскивал дружков на побег, смеялся над Оладиком-кулаком.
Оладик метался в горячке. Какой-то ловкач спер у него валенки с ног. Оладик кутал тощие цыплячьи ноги дырявым крапивным мешком. Мария Есаулова развязала мешок с пожитками, достала пару мужниных сапог. Глеб шил их у хорошего мастера и берег. Лет пять лежали они на дне сундука, пропахшие иранским табаком. Внутри нежный мех ягненка. Оладик безропотно натянул сапоги. Поезд остановился. С рыпом отодвинулась визжащая блоками дверь-стена. Вагон изнутри мохнато заиндевел, но теперь в нем казалось тепло — так дуло с улицы. Мария сбегала за кипятком, напоила Оладика чаем с таблеткой сахарина.
— Ты, Маруся, будешь у бога по правую руку сидеть, — сказал Спиридон. — И сам Петр, камень церкви, будет наливать тебе вино.
Снова станция. Река. Ссыльным разрешили выйти. Кто-то разузнал:
— Иртыш.
Так казаки очутились в гостях у Ермака, славного донского атамана, воевавшего царю Сибирь. Глянув на серые волны, несущие льдины, Спиридон, казачий запевала, начал песню Кондратия Рылеева, повешенного царем декабриста. О своей несчастливой доле плакали казаки.
И пала грозная в боях,
Не обнажив меча, дружина…
Караульные погнали колонну назад. Нет — даже собаки почуяли: тут и пуля бесполезна, пока не допоют.
Тяжелый панцирь, дар царя,
Стал гибели его виною…
Тяжелый панцирь царских привилегий простым хлеборобам.
На одной станции ссыльных поставили на стройку элеватора. Мастера были вольные, местные. Посмотрел на их работу дядя Анисим, достал из мешка серебряную киюру, прочитал чертеж, расставил казаков подносить кирпичи, крикнул: «Бабы, готовь материал!» — то есть раствор, глину, надел фартук и начал возводить зернохранилище. Всех загонял в работе, сам упарился, ночь на дворе — он при кострах продолжает кладку, «плетет» кирпичные кружева, «рисует» ложные арки, украшает антаблементы. Заразил и местных мастеров, и ссыльных. Планировали сделать зерновой дом за месяц — Анисим Лунь выбил имя свое на фризе через неделю и вымыл в чистой воде киюру.
Приемщики ахнули — так быстро вырос в степи элеватор, а мастера на руках снесли с лесов, прохватило его, потного, жгучим ветром, застудился.
Тут и похоронили его. Но сказать успел:
«В месяц колосьев, в месяц Авив, тронулись они ночью, неся кости Иосифа в тройном саркофаге — из золота, серебра и кедра… При реках Вавилона, там сидели мы, и плакали, когда вспоминали о Сионе, когда сидели у котлов с мясом и ели хлеб досыта и финиковые плоды, и лепешки с медом, и лапшу белую, как кориандровое семя… Многие объявляли великих, но прежде смерти никого не называй блаженным… Увы, государь, иной человек искусен и учит других, а для своей души бесполезен… Не бейтесь: страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка…
Как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного… Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремиться вверх… На злачных пажитях и у тихих вод ходил я… Итак, иди, ешь с веселием хлеб твой и пей в радости вино твое — нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить, веселиться… Как моль одежде, как червь дереву, так печаль сердцу… Летам моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный… Гробу скажу: ты отец мой; червю: ты мать и сестра моя… Я стал как филин на развалинах… И пророки станут ветром… Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня… Я должен, подобно ткачу, отрезать жизнь свою. Итак, ждите меня…»
Дяде Анисиму было лет двадцать, когда умер его отец Лука Лунь. Знаменитыми деяниями Луки считалось водружение колоколов на церквах. Мало поднять колокол в небесную высь с помощью веревочной механики — надо установить так, чтобы звон был чистым, малиновым, тревожащим, умиляющим. В знак почтения к отцу Анисим вырубил в скалах глыбу дикого золотистого доломита и вытесал надгробие в виде мощного колокола.