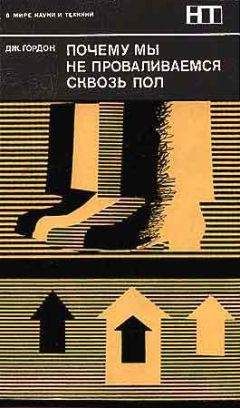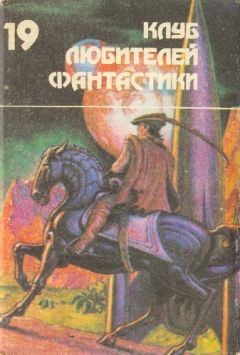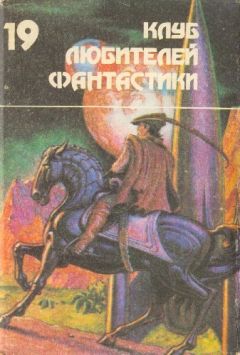внушенным Адо своим ученикам.
У меня специфический взгляд на школу, поскольку большинство тех, кто поименован «учениками Адо», проходили еще и мое тестирование в качестве официального оппонента. Некоторым даже «повезло» иметь меня в таком качестве дважды: при защите кандидатской и докторской диссертаций. А у С.Ф. Блуменау и Л.А. Пименовой уже и собственные ученики удостоились такой чести.
Были тяжелые случаи, и стиль «хромал», и сложности с интерпретацией диссертационного текста по ваковским требованиям имели место. Но если коротко, то повезло и мне. «Александр Владимирович [1127], бью Вам челом», – было традиционное вступление Адо, за которым следовала просьба об оппонировании. И я с радостью откликался, потому что бывал уверен в качестве диссертационного текста.
Даже получив согласие, Адо старался держать все под контролем. И продолжал заботиться о предстоящей защите: «Звонил Вам сегодня, но Вы еще в отъезде, а я завтра утром уезжаю в санаторий. Хотел напомнить Вам, что защита моего аспиранта Э. Гусейнова (“Формирование политической группировки жирондистов”), у которого Вы любезно согласились выступить референтом, состоится в октябре… Он будет Вам звонить, привезет работу» [1128]. В своей многолетней практике никогда не встречал подобной заботы руководителя о защите своего аспиранта!
Первое мое оппонирование случилось в 1979 г., в год тяжелейшего инфаркта А.В. Моей «подзащитной» выступала Зинаида Алексеевна Чеканцева. Смею так говорить, поскольку отсутствие Анатолия Васильевича накладывало на меня особые обязательства. А.В. это оценил: «Хотел, во-первых, от души – хотя и с опозданием – поблагодарить Вас за доброе отношение ваше к моей ученице З. Чеканцевой и за содержательное, интересное выступление по ее работе» [1129].
Потом последовали защиты Милы Пименовой, Жени Обичкиной, Эльмара Гусейнова. К середине 80-х, как с удовлетворением отмечал Адо, сложилось нечто подобное «клану способных молодых людей», которые учились у него – уже «что-то вроде небольшой школы» [1130].
А познакомился я с Анатолием Васильевичем очень давно, когда никакой «школы Адо» и в помине не было. Случилось это весной 1958 г., Адо приехал с группой студентов на архивную практику в Ленинград и навестил в Петергофе Захера. Он занимался статьями Альбера Собуля, готовя их к изданию (то было первое издание выдающегося историка-марксиста в СССР). И консультировался с Я.М. относительно перевода различных терминов и, главное, характера и стиля комментариев. Оттепель была в самом начале, и требовалась вящая деликатность в отношении даже тех дружественных нам ученых, которых называли «прогрессивными» [1131].
На Якова Михайловича Адо произвел хорошее впечатление, он с удовлетворением обратил внимание на его французское произношение, и Адо пояснил, что брал частные уроки. А меня А.В. поразил своим стильным видом (на нем был модный кожаный пиджак, подобный которому мы видели тогда у «стиляг» на Невском). Вообще он был как бы из другого мира. Подлинно столичная штучка!
На следующий год я посетил Адо в Доме аспирантов и молодых преподавателей МГУ на Ломоносовском проспекте. Разумеется, он был одет по-домашнему, но ощущение параллельных миров сохранилось. Я кончал университет, и будущее представлялось мне совершенно неопределенным. Понимал бесцельность своего визита, но то была инициатива Захера, который был очень озабочен моим научным будущим. Адо был беспощаден: пути в науку о Французской революции для меня нет. Чувствовалось, что ему неприятно это говорить, но, в конце концов, ни его университетское положение, ни деловые связи не были настолько солидными, чтобы предложить мне содействие в поступлении в аспирантуру.
Все же чувство обиды у меня осталось, и я не встречался с Адо вплоть до того момента, когда мне понадобился официальный внешний отзыв для защиты кандидатской. А.В. очень охотно пошел навстречу и даже сказал, что не прочь стать оппонентом. Его отзыв оказался замечательным с тонким прочувствованием задач, которые я перед собой поставил, и с полным одобрением самого подхода: «Прежде всего, – писал Адо, – хочу приветствовать научную смелость автора диссертации… Во-первых, потому что тема, избранная А.В. Гордоном… чрезвычайна трудна и очень широка по замыслу… Сюжет не кандидатской, а докторской диссертации. Во-вторых, и это главное – потому что тема эта “классическая”… вызывающая оживленные споры. Притом споры не только в одном плане – вся марксистская наука против буржуазной; споры идут и в марксистской науке, в том числе советской».
Адо признавался: у него возникло опасение, «не будет ли неоправданной дерзостью со стороны молодого исследователя претендовать на свое особое слово» в разработке такой темы. «Опасения оказались напрасны»: автор «сумел сказать свое слово, сказать его уверенно и смело» [1132]. В тот критический для любого ученого момент поддержка Адо очень вдохновила меня.
И с того времени (1967) между нами образовался творческий союз, основанный как на взаимной симпатии, так и на деловых отношениях. Иллюстрацией может служить надпись, сделанная А.В. на подаренном мне втором издании его знаменитой монографии: «Дорогому Александру Владимировичу Гордону в память о нашем многолетнем сотрудничестве и с самыми добрыми пожеланиями 18.I.88».
Образование нашего творческого союза объясняется довольно просто с историографической точки зрения. Как говорится, «ничего личного». Точнее, у меня, как и у Анатолия Васильевича, были превосходные личные отношения с Манфредом и Далиным (оба были оппонентами на защите докторской диссертации Адо). Но оба «гранда» исповедовали «якобинократизм», были приверженцами в известной мере того «культа власти», что сложился в изучении Французской революции в 30-х годах. Я же через Захера, Адо через Поршнева унаследовали более характерный для 20-х годов «культ революции» как великого народного движения [1133].
Мое положение было особенно деликатным. Правда Далину понравилась моя статья о роли секций и их центрального органа в восстании 31 мая – 2 июня 1793 г. Понравилась тем, что я ушел от выпячивания роли «бешеных», но Манфреду не понравилось акцентирование роли активистов секций в ущерб Якобинскому клубу и его лидерам. И он выразил надежду, что при описании дальнейших событий все станет на свои места. Не стало! Опять у меня в центре внимания оказались «низы», их настроения, их устремления. Хотя Адо к тому времени еще не продвинулся в своих исследованиях к 1793 г., уже его работа о положении в деревне накануне свержения монархии укрепила мою позицию по генезису якобинской диктатуры.
И я обильно ее цитировал. Это заметил Манфред: «Вы очень часто ссылаетесь на Адо». «Это хорошо!» – заявил я, сделав вид, что не заметил подвоха. «Нет, плохо, – сказал мой научный руководитель, – другие могут обидеться». Он имел в виду Далина. Я обошел это замечание. В отношениях со мной Альберт Захарович отличался исключительной терпимостью, а Виктор Моисеевич очень ценил исследовательский талант Адо. Как-то я назвал Анатолия Васильевича «историком-аграрником». Далин возмутился. В его представлении