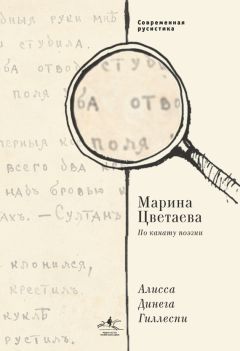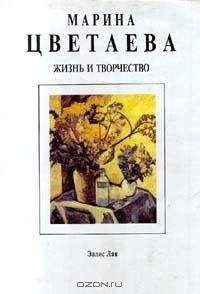мести явно изрядно занимали поэта летом 1836 года – десять лет спустя после казни пяти декабристов (13 июля 1826 года) и ссылки остальных (в том числе и В. К. Кюхельбекера, с которым поэт продолжал переписку и чей приговор был смягчен императорским указом в декабре 1835 года; к Кюхельбекеру мы еще вернемся позже). «Гнуть шею» в «Из Пиндемонти» может быть, помимо прочего, намеком на петлю палача и, следовательно, скрытым напоминанием об этих событиях; таким образом, отказ пушкинского лирического «я» гнуть шею выглядит двусмысленно: в нем прочитывается не только гордый отказ подчиниться, но, возможно, и не покидающее его чувство вины за то, что он пережил менее удачливых друзей юности (поэтических и политических союзников) и вместе с тем понимание бесполезности их идеалистического самопожертвования.
Тема прав и свобод в «Из Пиндемонти» также напоминает о том, что Пушкин в это время работал над статьей об А. Н. Радищеве – ее он собирался опубликовать в третьем номере своего журнала «Современник»; цензор впоследствии отклонил статью. Напомним, что Радищев, чье имя во времена Пушкина оставалось запрещенным, был приговорен к смерти в ходе сфабрикованного судебного процесса, а затем (после смягчения приговора указом императрицы) сослан в Сибирь за просвещенную критику несправедливости российского общества; вскоре после возвращения в Петербург Радищев покончил с собой. Таким образом, смертная казнь, самопожертвование, возмездие и самоубийство создают мрачный фон для основополагающих вопросов, неотступно преследующих героя в Каменноостровском цикле. Как может поэт продолжать быть поэтом, если он не может обрести личную свободу, если его личное достоинство попрано? Как он может продолжать писать стихи, как может чувствовать себя поэтом, как вообще может жить в климате, который ощущается им как противоречащий самым важным принципам его существования?
Подытожу: Пушкин, прекрасно осознающий наличие внешних сил, готовых всей своей тяжестью сокрушить его и его поэзию, вводит в «Из Пиндемонти» сложный конгломерат взаимопереплетенных мотивов, который задает смыслы всего Каменноостровского цикла: добровольное принятие молчания, при котором отдушиной для творческой свободы оказываются каламбуры, мнимый отказ от словесного искусства и имитация безумия как скрытное уклонение от общественного нажима (что есть на самом деле творческий экстаз) служат желанию поэта защитить свое личное пространство, убежать от своего сложившегося публичного образа и от людского общества в чистый мир красоты, но невероятность такого побега чревата мыслями о самопожертвовании и насильственной смерти.
В свете вышесказанного важно, что само заглавие «Из Пиндемонти» – словосочетание, открывающее Каменноостровский цикл, – сразу же определяет роль Пушкина в цикле не столько как оригинального писателя, сколько как талантливого читателя. Чтение – как мы уже поняли по биографическому контексту «Из Пиндемонти» и по его шекспировскому подтексту – дает поэту творческую «лазейку для побега»; когда он пишет как «читатель», он может странствовать среди чужих слов, притворяться молчащим и достигать степени свободы, в ином случае недоступной. На самом деле заглавие «Из Пиндемонти» считается скорее мистификацией, призванной запутать цензора: источника этого стихотворения в текстах итальянского поэта И. Пиндемонте найдено не было; Томашевский, однако, отмечает, что пушкинская высокая оценка Пиндемонте явным образом совпадает с тем, как о нем отзывается С. де Сисмонди в книге «О литературе юга Европы» (De la Literature du Midi de l’Europe):
Потеря друга, болезнь, которую он считал смертельной, показали ему ничтожество жизни. Он порвал связь со всем личным, и сердце его обратилось к наслаждениям природы, сельской жизни и одиночества… Многие стихотворения Пиндемонти [sic!] связаны со стихами Грея [227].
Близость Пиндемонте к английскому поэту Т. Грею подчеркивает симметрию, которая, как я полагаю, присутствует между «Из Пиндемонти» и «Когда за городом…», ведь второе стихотворение основано на «Элегии на сельском кладбище» Грея, которая была крайне популярна в России в переводе В. А. Жуковского (под названием «Сельское кладбище») и служила образцом русской медитативной элегии не одному поколению [228].
Стихотворения Пасхального цикла также сложены под «прикрытием» литературных подтекстов. В основу второго стихотворения цикла «Отцы пустынники…» положена почти дословно цитируемая молитва Ефрема Сирина из православной литургии; третье, центральное стихотворение «Подражание итальянскому» – переработка сонета о предательстве Иудой Христа, сочиненного итальянским поэтом-импровизатором Ф. Джанни и переведенного на французский А. Дешаном, а четвертое стихотворение, «Мирская власть», пересказывает евангельскую историю Распятия [229]. Таким образом, Пушкин намеренно помещает каждое из стихотворений Каменноостровского цикла – возможно, одного из самых личных произведений – поверх предшествующего текста или чужого слова: «слова, слова, слова», внешние по отношению к поэту, обеспечивают ему некую степень уединения и защиты. Эта стратегия демонстрирует, что Пушкин в своих поздних лирических текстах не только «чревовещает за другого… силой воображения помещая свой голос в чужое тело, перенимая его свойства и точку зрения», как убедительно показывает Пауэлсток [Powelstock 2000: 131] [230], но и совершает обратное: с помощью других чревовещает сам за себя, словно бы издалека; поверяет мыслями и словами других собственный творческий и духовный опыт; выявляет свое самое глубинное, личное «я» через тайные встречи с чужими текстами, чужими способами мышления и бытия и в конечном счете с самым чужим состоянием из всех – с небытием или смертью.
Стихотворение «Когда за городом…» во всем Каменноостровском цикле наиболее открыто говорит о смерти. Однако его структурный параллелизм с «Из Пиндемонти» намекает на то, что оно написано еще и о поэзии и о тоске поэта, пойманного в западню недружественной среды. И «Из Пиндемонти», и «Когда за городом…» противопоставляют эстетику и притязания светского, городского и политического мира любезным поэту природе, покою и уединению; в каждом из стихотворений эти два мира – и две части текста, посвященные каждому из миров, – отделены друг от друга графически разорванной строкой. Снова, как и в первом стихотворении цикла, где он отвергал гражданские свободы, поэт в «Когда за городом…» отвергает и грубую эстетику перенаселенного петербургского кладбища, его публичность, беспорядочность, безвкусицу, а заодно и надписи на могилах «и в прозе и в стихах», запечатлевшие земные деяния и славу городских мертвецов. Он не желает такой памяти о себе, а безвкусные и пошлые надписи наводят на него «злое уныние». Шумному посмертному признанию он предпочитает «торжественный покой» деревенского кладбища, где предыдущей весной похоронил мать и купил участок для себя. Поэт предпочитает «неукрашенную» могилу, уединение, тайну и тихую безмятежность. Предпочтение тишины и покоя признанию в прозаических и стихотворных надписях напоминает о том, как он отвергает «слова, слова, слова» в пользу «иных прав» и «иной свободы» в начальном стихотворении цикла.
«Когда за городом…» имеет мало общего со своим романтическим подтекстом – медитативной элегией. «Сельское кладбище» Жуковского – стихотворение, насквозь сентиментальное,