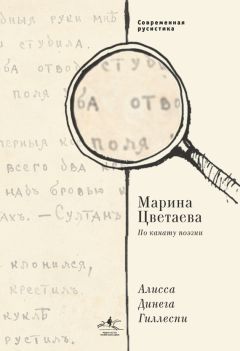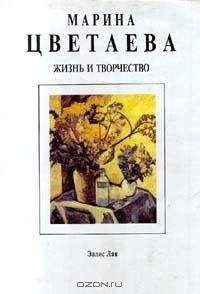экзальтированное и подчеркнуто скорбное; оно включает множество таких слов, как «чувствительный», «прискорбный», «меланхолия», «слеза» и т. п., а тема смерти как «великого уравнителя» в первой части элегии вскоре сменяется вставным рассказом о таинственном незнакомце, поэте, который постоянно посещает кладбище, томимый непонятной «горестью», а потом и сам безвременно умирает (слезливая эпитафия ему растянута на три последние строфы элегии). Историю несчастного молодого поэта рассказывает случайному собеседнику-повествователю пожилой селянин («усталый селянин», «селянин с почтенной сединою»). В пушкинском стихотворении нет ничего подобного. Здесь нет таинственных незнакомцев, а поэтической тишине предается сам зрелый поэт, а не молодой странник. Селянин у Пушкина проходит мимо – то ли в настоящем, то ли в будущем, – ни с кем не разговаривая (правда, он вздыхает и произносит молитву) или, судя по всему, вообще не замечая присутствия поэта. Собственно, в пушкинском стихотворении нет
сюжета — есть только место действия, настроение, финал рассказа. Более того, описанное Пушкиным отвратительное городское кладбище (не упоминающееся в элегии Жуковского) служит контрастом сельскому кладбищу и тем самым нейтрализует сентиментальность, с которой подходит к теме смерти Жуковский. Собственно, «Когда за городом…» вовсе лишено сентиментальности; отношение Пушкина к смерти в его начальной части – это отвращение, смешанное с гротескной иронией, тогда как финальная часть стихотворения представляет деревенское кладбище реалистично, как место умиротворенное и возвышающее, где поэт спокойно примет собственную надвигающуюся смерть, когда бы она ни наступила [231].
Меткое наблюдение Пауэлстока, что финальный раздел первой части «Когда за городом…» («Такие смутные мне мысли все наводит, / Что злое на меня уныние находит. / Хоть плюнуть да бежать…») читается как «грубоватый пасквиль на элегический сантимент» [Powelstock 2000: 122], имеет под собой основания [232]. Различия в темпераменте и стилистике между стихотворениями Пушкина и Жуковского столь разительны, что возникает вопрос, нет ли здесь дополнительного подтекста, действующего как полемическое орудие против элегических условностей, характерных не только для «Сельского кладбища», но и для ранней элегической поэзии самого Пушкина. Конкретно таким подтекстом может быть знаменитая сцена на кладбище из «Гамлета» (акт 5 сцена 1). Барочный дух перешучивания Гамлета с могильщиками – одновременно мрачного и насмешливого, как иллюстрация краткости и бессмысленности человеческой жизни, – схож с интонацией Пушкина в первой части «Когда за городом…»: гниющие трупы, скученные «в болоте», купцы, чиновники и рогачи, заключенные в «могилы склизкие», «зеваючи» ожидающие новых мертвецов, напоминают попавшего к «государыне Гнили» (или «Курносой») [233] шекспировского придворного, чьи «кости [вряд ли] стоило растить, чтобы теперь играть ими в рюхи», или законника, которому «теперь хлопают грязной лопатой по затылку», не говоря уже о придворном шуте Йорике, от которого остался лишь голый череп [234]. Как и в «Когда за городом…», во второй части этой сцены из «Гамлета» происходит резкий драматический сдвиг, отход от духа макабрической комедии, когда Гамлет узнает, что Офелия умерла (возможно, и покончила с собой) и теперь ее несут хоронить. Здесь мы снова обнаруживаем более широкую мотивную структуру пушкинского цикла, выявляемую с помощью шекспировского подтекста и включающую в себя мотивы самопожертвования, самоубийства, мести и вины.
Наличие дополнительного гамлетовского подтекста в «Когда за городом…» подтверждают два момента. Во-первых, структурная симметрия между «Из Пиндемонти» и «Когда за городом» и архитектоническая симметрия Каменноостровского цикла в целом позволяет предположить, что и основной подтекст у этих двух стихотворений один и тот же. Во-вторых, Пушкин уже использовал сцену на кладбище из «Гамлета» в очень похожем тематическом контексте – в конце второй главы «Евгения Онегина» [235]. Показательно, что эмоция, владеющая уподобленным Гамлету Ленским в «Евгении Онегине», как и самим Пушкиным в «Когда за городом…», – это уныние', по мнению поэта и критика Вяч. Иванова, уныние, подразумевающее утрату веры в Бога, для Пушкина «главный враг, злейший из бесов» [Иванов 1987: 336]; Давыдов ассоциирует этот смертный грех с мотивами «излишности, тщетности, бесцельности, пустоты, однообразия» и отмечает, что поэт так никогда и не одолел искушения им [см. Давыдов 1993: 81]. Полярная противоположность уныния в личном поэтическом словаре Пушкина – умиление — является, как мы уже убедились, ключевой эмоцией воображаемого побега в финале «Из Пиндемонти». Умиление, по моему мнению, также служит ключом к тому, что Давыдов называет «эстетической телеологией» Пушкина, – к его личной вере в возможность альтернативного «бессмертия через творчество» [Давыдов 1993: 89]. К концу Каменноостровского цикла Пушкин уже оставил надежду на умиление и может лишь отойти от разрушительного, изнуряющего уныния (демонические истоки которого становятся ясны из суеверного желания поэта «плюнуть да бежать») к мыслям об освобождении, которое несут в себе смерть и забвение.
Ничто не намекает в этом стихотворении на жизнь вечную; смерть есть возвращение к природе, ничего более. Природа говорит с Пушкиным через шелест дуба, раскинувшего ветви над могилами, поэт слушает и замолкает: «Стоит широко дуб над важными гробами, / Колеблясь и шумя…» Несмотря на схожесть этой незавершенной финальной строки с «широкошумными дубровами» в «Поэте», в финале «Когда за городом…» нет намека на открывающиеся возможности или на восторг вдохновения, сулящий сочинение новых стихов; нет здесь и завершающей рифмы. Напротив, неполная, интонационно незавершенная строка подразумевает намеренное молчание поэта, отдающего свое тело молчаливой земле, а голос – говорящему дубу. Природа и есть подлинный поэт, природа продолжит говорить за него, когда его уже не будет, изобличая тиранию, притеснение и ложь всех мастей, – вот что открывает для себя Пушкин к концу «Когда за городом…» и, следовательно, к финалу всего Каменноостровского цикла.
В начале цикла поэт выбирает стратегию отказа от своего публичного «я», во избежание неприятностей позиционируя себя как чуткого потребителя, а не активного производителя поэтических текстов. В финале цикла он искренне смиряется с бесповоротностью смерти и даже приветствует ее приход. Смерть, понимаемая как окончательное, лишенное духовного измерения забвение, отказ от поэтического голоса перед лицом превосходящего его красноречия природы, становится ответом на жажду счастья и творческой свободы, с такой тоской высказанную поэтом в начальном стихотворении цикла, а древний дуб-утешитель символически заменяет собой прежние райские мечты. Таким путем в финале Каменноостровского цикла смерть предстает как неожиданная вдохновляющая цель и источник всего цикла; стоит ли объяснять, что это противоречит интерпретации цикла как текста о христианском спасении.
Внешние «створки» Пасхального триптиха: имитация священного («Отцы пустынники…» и «Мирская власть»)
В «Из Пиндемонти» и «Когда за городом…» мы наблюдали, как поэт примеряет различные маски (в виде литературных подтекстов), в том числе и посмертную маску – как средство имитации молчания, чтобы избегнуть внимания общества. И в «Отцах пустынниках…», и в «Мирской