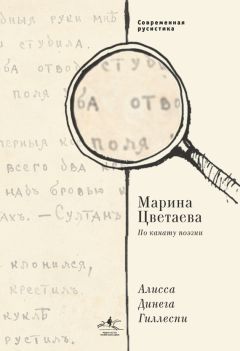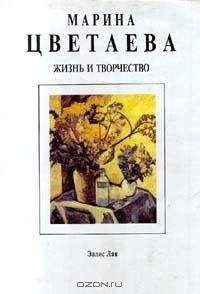свободу выражения (искусно озвучивая свои предпочтения устами различных культурных персонажей), а не покорность, хотя такой выбор означает отказ от обещанной христианством вечной жизни. Как мы уже видели, буквально в следующем стихотворении он добровольно обменяет обещание в «Мирской власти» «животворящего древа» (то есть распятия) на забвение кладбищенского дуба.
Возвращаясь к стихотворению «Отцы пустынники…», мы можем заметить, что завершающая стихотворение переиначенная молитва составляет структурную параллель к вдохновенной заключительной тираде «Мирской власти», где Пушкин апроприирует распятие в собственных идейных целях. Это одно уже должно дать читателю понять, что небольшие изменения, внесенные поэтом в текст Ефрема Сирина, дают в итоге нечто совсем не похожее на истовый парафраз молитвы. Тем не менее большинство исследователей по сей день настаивают на прочтении стихотворения «Отцы пустынники…» как текста, свидетельствующего о страстном духовном стремлении и тоске по Божественному. Давыдов, например, сделав исключительно полезный, подробный обзор изменений, внесенных Пушкиным в оригинальную молитву, утверждает, будто эти изменения «литургичны по своей сути и потому не вносят существенных искажений в молитву», более того, «[включая молитву Ефрема Сирина] в собственное стихотворение, Пушкин тем самым отдает дань духовным и поэтическим талантам отца церкви. Пушкин воспроизвел молитву почти дословно и без кавычек. Поступая так, поэт следует древнему принципу написания священных текстов, согласно которому именно подражание (Jmitatio), а не изобретательность (innovatid) представляет высшее достоинство» [Davydov 1993: 42, 41] [240]. На мой взгляд, эти замечания раскрывают сущность непонимания критиками Каменноостровского цикла в целом: не учитывается более широкий контекст, присутствующий в обрамляющих цикл стихотворениях, лишенных христианской составляющей. Пушкин – исключительно умелый чревовещатель, и неудивительно, что вне более широкой системы координат его имитация христианского смирения в «Отцах пустынниках…» убедительно прочитывается как добросовестное подражание, а не как мастерское новаторство, каковым она и является.
Чтобы показать обоснованность предлагаемой мной интерпретации, я вначале рассмотрю затекстовый ряд данного стихотворения, а затем его содержание и межтекстовые связи с другими стихотворениями цикла. Фомичев, Давыдов и Миккельсон в числе других считают, что прозаические тексты Пушкина на христианские темы, опубликованные в «Современнике» в последний год его жизни, демонстрируют религиозное пробуждение поэта; в частности, статья «Об обязанностях человека: Сочинение Сильвио Пеллико», по мнению многих, содержит ключ к пониманию «Отцов пустынников…» и всего Каменноостровского цикла [241]. Пушкин, без всякого сомнения, глубоко интересовался тогда христианством, оно его даже привлекало. Но его восхваление «божественного красноречия» Евангелий не должно было мешать ему рассматривать библейский текст как любой другой литературный текст, доступный пытливому уму поэта; равно как и уважение к «кротости духа, сладости красноречия и младенческой простоте сердца» [242] Христа не обязательно означает, что Пушкин сам стремился обрести эти качества (на самом деле в «Мирской власти» мы уже видели, что он их отвергает). К тому же проза Пушкина, предназначенная для публикации в собственном журнале – финансовом и общественном предприятии, успех которого ему был отчаянно необходим, – могла не отражать его личных убеждений в такой степени, как глубокие стихотворения Каменноостровского цикла, которые он, по-видимому, писал исключительно для себя и никогда не пытался опубликовать.
Фомичев обнаруживает убедительную связь между статьей Пушкина о Пеллико и десятилетней годовщиной вынесения приговора декабристам [243]; но я бы предложила иное толкование значения статьи в связи с Каменноостровским циклом. Сильвио Пеллико, итальянский писатель и драматург, был старше Пушкина на десять лет; в 1822 году его приговорили к смерти за издание недолго просуществовавшего литературного журнала «11 Consiliatore». Этот журнал считался рупором карбонариев – тайной политической организации, чья попытка государственного переворота в 1820 году была подавлена королем Фердинандом I при помощи нескольких иностранных держав, в том числе и Российской империи. Многие карбонарии были казнены, но приговор Пеллико смягчили до тюремного заключения; после досрочного освобождения в 1830 году и до конца жизни писатель посвятил свое творчество религиозным, а не политическим темам. Таким образом, история Пеллико действительно вызывает в памяти судьбы декабристов-литераторов, особенно Кюхельбекера, который (как отмечает Фомичев) «обрел веру», находясь в заключении, и был к тому времени недавно освобожден из ссылки. В то же время факт, что Пеллико был осужден за издание литературного журнала, должен был привлечь внимание Пушкина в период издания «Современника».
Сложная цепочка ассоциаций дает повод предположить, что пушкинские слова об уважении к религиозным текстам Пеллико следует толковать одновременно на нескольких уровнях. История Пеллико должна была срезонировать у Пушкина с собственным чувством уязвимости, вновь напомнить ему о самопожертвовании декабристов, о том, как он сам избежал их участи, и поставить его перед вопросом, который, очевидно, сильно занимал его мысли в этот период: возможно ли, создав хитрую видимость соблюдения общественных и политических норм (имитируя молчание или принятие публично одобренных точек зрения – главным образом, точки зрения православного христианства), сохранить свободу поэтического выражения. Пушкин действительно мог завидовать личностям типа Кюхельбекера и Пеллико (не говоря о Христе), избежавшим соблазна горько разочароваться и озлобиться, несмотря на самые неблагоприятные условия. Мог он и задаться циничным вопросом: не были ли набожные рассуждения этих людей, по крайней мере до определенной степени, притворством, рассчитанным на то, чтобы по истечении наказания не навлечь на себя новых бед. Он мог даже предположить, что сам Ефрем Сирин, возможно, сочинил свою молитву из таких же практических соображений (то есть под таким же давлением), поскольку биография святого напоминает судьбы Кюхельбекера, Пеллико и самого Пушкина: «Ефрем Сирин, <…> будучи в юношестве безрассудным и раздражительным, но попав случайно в тюрьму по обвинению в краже овец, здесь прозрел, удостоился слышать глас божий и смирился» [244].
Отношение Пушкина к молитве преподобного Ефрема – по крайней мере, в молодости – было куда менее почтительным: он пародировал его в письме А. А. Дельвигу от 23 марта 1821 года («Желаю ему [Кюхельбекеру] в Париже дух целомудрия, в канцелярии Нарышкина дух смиренномудрия и терпения, об Духе любви я не беспокоюсь, в этом нуждаться не будет, о празднословии молчу – дальний друг не может быть излишне болтлив» [245]). В финале скандальной «Гавриилиады», написанной в том же году, также содержится пародия на эту молитву: «Даруй ты мне беспечность и смиренье, / Даруй ты мне терпенье вновь и вновь, / Спокойный сон, в супруге уверенье, / В семействе мир и к ближнему любовь!» Учитывая этот пародийный контекст, отход Пушкина от литургического источника в «Отцах пустынниках…» – например, пропуск выражающей покорность фразы «мне рабу Твоему», помещение мольбы о даровании целомудрия после мольбы о любви и точная передача последней мольбы («целомудрия мне в сердце оживи», что подразумевает, что в настоящий