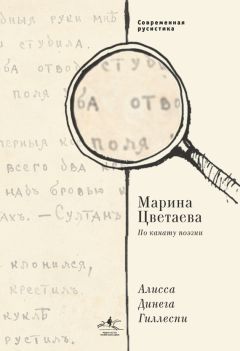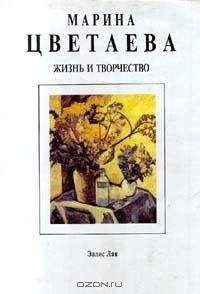так и после его смерти [Bethea 1998: 173–234].
В своем прочтении «Пророка» Кан отходит от мифологического статуса, который с годами сложился у этого стихотворения, и анализирует его значимость как одного из произведений, написанных в конце 1820-х годов, где Пушкин пытается решить для себя различные вопросы поэтического авторитета в свете собственных профессиональных и коммерческих устремлений.
Стихотворение Пушкина «Пророк» [ПСС II: 304]. Цявловский, а затем Пильщиков и Шапир тщательно выявляют многочисленные языковые и фразеологические переклички между лицейской лирикой Пушкина, его письмами и «Тенью Баркова»; все это помогло однозначно установить авторство баллады (см. [Цявловский 2002: 241–251; Pilshchikov 2012]. Распространяя это межтекстовое сопоставление на глубинные, архетипические сюжетные и психологические параллели между балладой и важнейшим произведением зрелого Пушкина, я логически перехожу на следующий уровень научного встраивания «Тени Баркова» в пушкинский канон.
Подробно о комментариях Мицкевича см. [Березкина 1999].
Такого рода интерпретации находим в следующих статьях: М. О. Гершензон, «Мудрость Пушкина» (1917); С. Н. Булгаков, «Жребий Пушкина» (1938) и С. Л. Франк, «Религиозность Пушкина» (1933) и «Светлая печаль» (1949).
См., например, [Степанов 1974: 313].
См. [Сурат 1999: 217–224; Сурат 2000: 87].
Этот вариант финальных четырех строк стихотворения приводится в [ПСС 1937–1959, III: 461]. В том, что автор данного фрагмента – Пушкин, не сомневались в числе прочих такие исследователи, как Н. О. Лернер, Д. Д. Благой, М. В. Строганов, М. А. Цявловский, а впоследствии – С. В. Березкина и И. 3. Сурат; среди тех, кто сомневался в авторстве Пушкина, – Т. Г. Цявловская, A. М. Слонимский, П. О. Морозов, Б. В. Томашевский, В. Е. Вацуро, в настоящее время эту точку зрения поддерживает И. В. Немировский, выдвинувший поразительную гипотезу о том, что четверостишие было на самом деле написано в сатирическом духе членами московского кружка любомудров, с которыми Пушкин одно время состоял в близкой дружбе, и задумывалось как жесткая критика предполагаемого предательства поэтом патриотических идеалов после провала декабристского восстания и его, как казалось членам кружка, честолюбивых и эгоистичных попыток «подлизаться» к новому царю (см. [Немировский 2001: 10]). М. Вахтель, вслед за Немировским, весьма скептически относится к предположению, что вариант четверостишия был написан самим Пушкиным, а также подвергает сомнению гипотезу, будто дата написания стихотворения несет в себе конкретное политическое значение. Зато в своем комментарии Вахтель подробно рассматривает два главных литературных подтекста стихотворения: Ис. 6:1-10 и стихотворение B. К. Кюхельбекера «Пророчество» (1822) [Wachtel 2011: 21–26].
Вариант приводится в [ПСС 1937–1959, III: 578].
Дж. Д. Клейтон и Н. А. Веселова анализируют аналогичное родство между профанными и благочестивыми текстами, сказкой-поэмой «Царь Никита и сорок его дочерей» и стихотворением «Птичка», см. [Clayton, Vesselova 2012].
М. И. Шапир прослеживает столь же интригующую и невероятную цепочку пародий и самопародий (см. [Шапир 2006]). Шапир замечает, что Пушкин пародийно продолжает темы из державинской оды «Фелица» (1781), которая сама по себе бурлескно сочетает высокий и низкий стиль од Ломоносова и Баркова, в эпилоге к поэме «Цыганы» (1824) и в романтической элегии «К морю» (1824), затем дальше развивает пародийные отсылки в шутливом послании «Калмычке» (1829) и, наконец, разворачивает цепь пародий обратно, в сторону более строгого регистра в письме Онегина Татьяне в «Евгении Онегине». Р. О. Якобсон схожим образом демонстрировал кажущиеся на первый взгляд невероятными близкие языковые и тематические параллели между сильно эротизированным, интимным лирическим стихотворением Пушкина «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…» (1830) и крайне целомудренным сонетом о независимости и достоинстве поэта «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию народной…» (1830) [Якобсон 1976: 25]. Можно также отметить, что оба стихотворения, по сути, посвящены праву поэта на частную жизнь и духовную независимость.
См. [Bethea 1998: 183–188]. По мнению Бетеа, Дельвиг также причастен к пушкинскому «полемическому возврату к семантике лицейского периода» и «разрыву с державинским восторгом» [Там же: 182].
Полный текст державинского стихотворения см. [Державин 1958: 414–415].
Исследователи, похоже, этот подтекст не распознали вовсе. Даже Б. Кук, при всем своем психоаналитическом подходе, совершенно упускает элемент сексуальной фантазии в «Пророке», утверждая, будто «самые откровенные выражения мужских генитальных и скатологических фантазий либо обнаруживаются в письмах близким друзьям и второразрядных литературных произведениях, либо иронично обыгрываются в текстах вроде “Евгения Онегина”… За несколькими, как правило, тщательно замаскированными исключениями, они не появляются в текстах, обычно считающихся лучшими текстами Пушкина» [Cooke 1998: 96–97]. Кук воспринимает глас серафима в «Пророке» как исключительно метафорический «орган оплодотворения», столь нежный, что способен лишь «коснуться слуха».
Это не единственная возможная ассоциация с образом «легких перстов» в «Пророке»; как отмечает Гаспаров, данный образ также служил атрибутом поэта в Античности (например, в произведениях Гомера) [Гаспаров 1999:246].
По иронии судьбы четырехстопный ямб – размер не только русского бурлеска (на что Пушкин здесь намекает), но и «Пророка»; на самом деле это любимый размер Пушкина, им написаны лирические стихотворения «Храни меня, мой талисман…» и «Я помню чудное мгновенье…», а также «Евгений Онегин». Об использовании четырехстопного ямба в русском бурлеске см. [Шапир 2000: 245].
Ранний вариант восьмой строфы «Домика в Коломне», см. [ПСС IV: 392].
См. [Worthy 1997:271–290], где автор разбирает систему мужских и женских рифм в «Домике в Коломне» и поясняет их возможное отношение к гендерным темам поэмы.
Безусловно, барковианский отзвук этого ключевого образа – не единственная ассоциация, напротив, сексуальный и библейский подтексты пушкинского стихотворения сосуществуют и взаимопроникают друг в друга. «Пылающий угль» мы находим не только в Книге пророка Исаии (Ис. 6: 6) – важном источнике «Пророка» в целом, но и в Книге пророка Иезекииля (Иез.1: 13), где церковнославянская версия библейского текста почти в точности совпадает со своеобразной пушкинской формулировкой (см. [Березкина 1999:38]).
Формулировки и образы в этих строках сходны с формулировками и