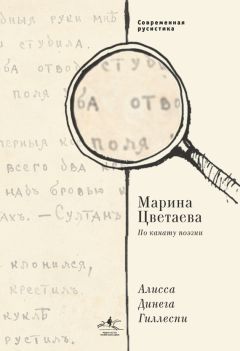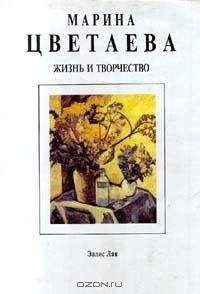истории, даже посреди социального хаоса и отсутствия фактов. Подобный вариант историзма, однако, глубоко противоречит западноевропейским представлениям.
«Макбет», пер. В. Рапопорта. – Примеч. ред.
«Ричард III», пер. А. Радловой. – Примеч. пер.
Bawdy and Soul: Pushkins Poetics of Obscenity // Taboo Pushkin: Topics, Texts, Interpretations. Ed. by A. D. Gillespie. Madison: University of Wisconsin Press, 2012. P. 185–223.
Подробно о реконструкции текста «Тени Баркова» М. А. Цявловским и о рецепции произведения см. [Pilshchikov 2012]. Комментарий Цявловского к стихотворению опубликован, наряду с обширным редакторским комментарием, в подготовленном И. А. Пилыциковым и М. И. Шапиром издании «Тени Баркова» [Цявловский 2002: 164–348]. Дж. Пешио рассматривает историю рецепции «Тени Баркова» [Peschio 2012]. Я также ссылаюсь на [Левинтон, Охотин 1991; Пильщиков 2002; Cross 1974; Шапир 1993; Пушкин 2004; Денисенко 1997]. Удачным дополнением к корпусу литературы об эротических произведениях Пушкина служат работы [Clayton, Veselova 2012] и [Kahn 2012].
Как указывает социолог И. С. Кон, «контраст между официальной, “высокой” культурой, освященной церковью и антисексуальной по своей природе, и “низкой”, повседневной культурой простых людей, в которой сексуальность воспринималась как положительная ценность», в России был намного сильнее, чем на Западе. Поэтому в России «сексуальное диссидентство считалось формой политической оппозиции», а «непристойность была прямым вызовом властям» – как светским, так и церковным [Коп 1995: 12–13, 26] (русский текст изданной в 1997 году книги Кона «Сексуальная культура в России: клубничка на березке» несколько отличается от англоязычной версии).
В данной главе я не подвергаю сомнению авторство Пушкина, которое, как мне представляется, было однозначно доказано. Более того, мой анализ служит дополнительным аргументом в пользу того, что автором этого порой вызывающего горячие споры текста был именно Пушкин. Скабрезную комическую поэму Пушкина «Гавриилиада» постигла в литературоведении похожая судьба – исследователи часто с порога отвергали поэму как мальчишескую шалость или, в лучшем случае, искали ее литературные истоки у Парни и других авторов (см. статью Денисенко «“От воздержанья муза чахнет…”: Эротика Пушкина» [Пушкин 2004:11–12]; Денисенко также характеризует «Царя Никиту» как «очередное кишиневское мальчишество» [Там же: 15]).
Л. Вильхельм рассматривает поразительные параллели в судьбах Пушкина и Эзопа, утверждая, что эротизм Пушкина был переосмыслен шовинистическим режимом как порнография: голос «есть то человеческое свойство, которого более всего страшится порнографическое воображение» [Wilhelm 1999: 266–267].
На момент написания диссертации Хопкинс располагал лишь неполным текстом «Тени Баркова», что привело к некоторым ошибкам и неверным толкованиям; главное, он не сумел понять, что Ебаков и поп-расстрига, упоминаемые в первой строфе баллады, – на самом деле одно и то же лицо.
См. также статью М. Шрубы, где разграничивается в русском контексте порнографическая поэзия и порнографическая проза [Шруба 1999:201,204]. Использование термина «порнография» не подтверждается в России до 1869 года [Пушкарева 1999:43]. Полезный комментарий относительно истоков порнографии и отношений между традиционной массовой и традиционной церковной культурой в России см. в [Levin 1999: 147].
Текст непристойной баллады Пушкина опубликован в [Пушкин 2002:33–41].
Краткое описание иконографии Приапа и приапической одической традиции в том виде, в каком ее практиковали поэты Древнего Рима и французские и русские классицисты XVIII века, включая самого Баркова, см. в [Levitt 1999: 221–223]. Можно предположить, что «Тень Баркова» намеренно обыгрывает легенду о Фаусте, с которой, согласно М. П. Алексееву, Пушкин, скорее всего, был знаком по журналу Bibliotheque universelle des romans 1776 года, обнаруженному в его библиотеке, куда входил французский перевод отрывков варианта немецкой легенды конца XVI века, помещенный в рубрике «комических, сатирических и невзыскательных произведений». Фрагменты предваряет краткое вступление, где фигура Фауста из легенды возводится к историческому лицу, Иоганну Фусту, или Фаусту из Майнца, владельцу одной из первых коммерческих типографий, а сама легенда о Фаусте характеризуется как моралистическая аллегория. По-прежнему не ясно, когда именно Пушкин впервые ознакомился с этой публикацией; о знакомстве Пушкина с различными источниками, связанными с темой Фауста, включая упомянутый здесь, см. [Алексеев 1979:97-109]. Учитывая, что в публикации Bibliotheque universelie des romans подчеркиваются возможные литературные занятия исторического Фауста, а сама легенда помещается в комико-сатирическую сферу, Пушкин мог иметь в виду легенду о Фаусте и эпизод сделки с дьяволом, когда задумывал «Тень Баркова». Сюжет баллады Жуковского «Громобой», опубликованной в 1811 году и, безусловно, известной Пушкину на момент сочинения «Тени Баркова», также вращается вокруг сделки с дьяволом. Цявловский, похоже, не учитывает эту глубокую типологическую параллель между двумя произведениями, когда пишет, что Пушкин не пародирует сюжет Жуковского, но лишь заимствует размер и форму строфы [Цявловский 2002: 257].
См. блестящую статью Шапира «Из истории русского “балладного стиха”» [Шапир 1993], а также в высшей степени информативную статью «Барков и Державин: из истории русского бурлеска» [Шапир 2002: 397–457].
Об этом см. упомянутую выше статью Шапира, где автор отмечает, что эти пародии вслед за «Одой Приапу» (1710) французского поэта Пирона в точности воспроизводят формальные и стилистические черты пародируемого жанра (например, размер, форму строфы, схему рифмовки), равно как и типичные риторические характеристики и клише [Шапир 2002: 397–398]. Первое академическое собрание произведений Баркова было издано лишь в конце XX века [Барков 1992]. Л. Хант определяет порнографию в нашем сегодняшнем понимании как «эксплицитное описание половых органов и сексуальных практик с целью вызвать сексуальное возбуждение» [Hunt 1993: 10].
И. А. Пильщиков отмечает, что в русской традиции непристойная поэзия наряду с богохульной «принадлежит к типу коммуникации “мужчина – мужчина”», тогда как эротическая поэзия, не содержащая непристойностей, при условии толики храбрости со стороны поэта, в начале XIX века иногда перемещалась в «коммуникативную ситуацию “мужчина – женщина”» [Pilshchikov 1995: 340]; Пушкин, к примеру, обыгрывает это перемещение в стихотворном вступлении к «Гавриилиаде». В противовес андроцентрической классической традиции сентиментализм отдает предпочтение читателю-женщине: «Идеальным автором для карамзинистов был тот, кого “читали дамы”» [Шапир 1993: 65], тот, кто писал, «как дамы говорят». Одним из результатов этого стало растущее понимание гендерности как подражания, понимание, порой проявлявшееся в литературном дендизме – практике (характерной и