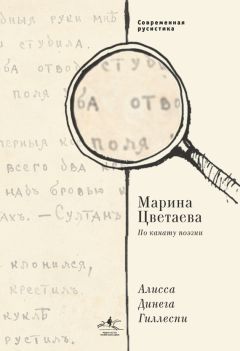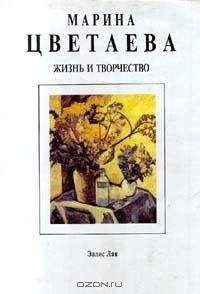пушкинский поэтический образ. См., например, краткий обзор В. Терраса [Terras 1983:299–316]; В. Слейтер придает этой теме современный поворот в [Slater 1999:407–427]. История апроприации Пушкина (особенно в творчестве русских писателей – А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, А. Г. Битова и А. Д. Синявского) обстоятельно рассмотрена в работе С. Сандлер [Sandler 2004]. Но и в этих, и в других работах уделяется мало внимания тому, как Пушкин сам формирует собственный поэтический образ.
Данная стратегия совпадает со стратегией Д. Бетеа, который предостерегает от искушения «выводить историческую личность из искусственно сконструированного голоса» при толковании пушкинской поэзии, однако оставляет открытой возможность «приблизиться к мифопоэтическому сознанию Пушкина», сопоставляя «пушкинские отсылки к конкретному мифу (или к ряду взаимосвязанных мифов), которые обнаруживаются в пределах одного и того же периода, но в разных “речевых зонах”» [Бетеа 2001: 208].
Похожим образом Гринлиф ставит в заслугу Л. Я. Гинзбург то, что она заметила «контраст между авторской гетерогенностью Пушкина и привязанностью романтиков к единственному “лирическому герою”, автобиографическому голосу поэтического “я”, которое охватывает все творчество автора» [Greenleaf 1994: 4].
Отсылка к известному эссе И. Берлина «Еж и лиса», которой автор делит людей на «ежей» и «лис», исходя из древнегреческой притчи: лиса знает много разного, а еж знает что-то одно, но очень важное. – Примеч. ред.
«Таким образом дружина ученых и писателей… всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности» [VII: 137].
Более ранние исследования, рассматривающие этический компонент произведений Пушкина и русской литературы в более широком смысле, как правило, представляют эти произведения как некую беспроблемную нравственную силу добра, действующего в обход аморального давления со стороны политического режима и цензуры. См., например, работу Дж. Гутше [Gutsche 1986], особенно главу, посвященную «Медному всаднику», где в заключении автор пишет: «Для нынешних поколений поэма служит мощным выражением бессилия и боли, которые испытывает жертва безразличия и насилия со стороны государства. Косвенным образом она подтверждает милосердие, понимание и ответственность» [Gutsche 1986:42]. Относительно этики и литературы – по большей части вне русского контекста – см. [Gardner 1978; Scheick 1990; Rainsford 1997; Tomarken 2002]. Применительно к настоящему анализу см. также [Kwame 2005].
«Цыганы» были написаны в последние месяцы пребывания Пушкина в Одессе и в невеселые, полные горечи первые месяцы скоропалительной ссылки на север, в Михайловское; ограничение личной свободы, ревность и страх перед женским непостоянством становятся взаимосвязанными темами этого произведения. Мотивы ревности и несвободы, казалось бы, совсем разные, оказываются в поэме, по сути, синонимичными.
Исключение находим у Грегга [Gregg 1989: 548] – он называет Алеко «героическим двойником» Пушкина, но не рассматривает возможных следствий этого соотношения. Единственный известный случай, когда двойничество в «Цыганах» обсуждается как таковое, – это блестящая статья Л. С. Флейшмана [Флейшман 2006]. Оценка Флейшманом структуры персонажей в «Цыганах» совпадает с моей собственной: «Всех – кроме (наименованных) женских – персонажей можно рассматривать как сюжетные вариации центрального – Алеко; все они даны по отношению к центральному персонажу как его неполные двойники, и ситуации и характеристики, приписываемые в тексте Алеко, апробированы параллельно (с вариациями) в приложении к его дублерам» [Флейшман 2006: 41]. Однако в своем анализе Флейшман останавливается на границе текста и, следовательно, не рассматривает самого Алеко как двойника автора. Более того, Флейшман рассматривает населяющих «Цыган» двойников лишь как еще один структурный элемент, который Пушкин варьирует в рамках сложной языковой архитектоники поэмы: «Весь текст организован таким образом, что любая входящая в него единица может принять (в зависимости от данного вербального окружения) статус ключевой… Достигается это варьированным повторением данной единицы и чередованием ее синтагматических валентностей-гнезд…» [Флейшман 2006: 44]. При таком структурно-лингвистическом подходе к двойникам в поэме Флейшман не обращается к их этическим или психолого-поэтическим (то есть внетекстовым) функциям, которые составляют мой интерес в данной работе.
См. также [Благой 1950: 326–327, 362]. Томашевский аналогичным образом утверждает, что в «Цыганах» Пушкин свергает с пьедестала байронического героя [Томашевский 1956]. Также интересно отметить, что Благой здесь использует слово «типовой», однако в издании своей книги 1967 года, которое существенно отличается от версии 1950 года, и далее везде использует в этой дихотомии слово «типический».
П. Барта, к примеру, основывая свои утверждения на странном уподоблении драматического метода Шекспира доктрине Р. Барта о «смерти автора», заявляет, что цель Пушкина в повествовательных текстах – «утопить авторский голос», изобрести «совершенно безликого рассказчика, лишенного идеологии, и текст, свободный от авторского голоса» [Barta 1988: 62, 55].
См., например, сетования Пушкина в послании «К Языкову» (1824): «Но злобно мной играет счастье: / Давно без крова я ношусь, / Куда подует самовластье; / Уснув, не знаю, где проснусь. / Всегда гоним, теперь в изгнанье / Влачу закованные дни…»
Подробнее об этом см. [Никишов 2001: 12]: «Советское пушкиноведение делало акцент на конфликтных отношениях вольнолюбивого поэта с правительством. Такой конфликт был – но как производный, как следствие: ссылку поэт был вынужден спровоцировать сам. Обо всем этом говорится в черновике (неотправленного) письма Александру I (июль – сентябрь 1825 г.)… Будем учитывать это, тогда станет понятной бравада первой “южной” элегии: “Я вас бежал…”; эта строка из пушкинского “Погасло дневное светило…” (1820)». И. Хелфант рассматривает увлечение Пушкина судьбой-искусительницей с иной позиции – с точки зрения игры, в контексте отношений поэта с третьесортным автором и неудачливым картежником И. Е. Великопольским [Helfant 2002: 48–66].
Правдива эта история или нет, само ее существование поддерживает мое прочтение Алеко как альтер эго Пушкина. (Об источниках этой легенды и о ее вымышленном характере см. [Проскурин 2013]. – Примеч. ред.)
Пушкин всю жизнь испытывал влечение к цыганской музыке. Об этом см. [Мурьянов 1999: 399–415].
Если мое истолкование медведя как двойника Алеко и тем самым двойника самого Пушкина покажется неубедительным, то сошлюсь на Флейшмана, также понимавшего медведя как «дублера» Алеко (наряду