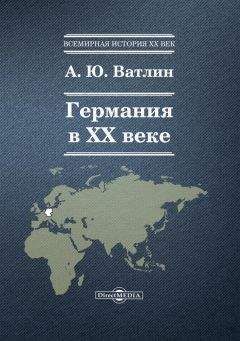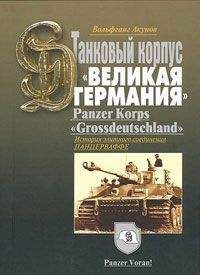С явным опозданием в Бонне обратили внимание на систему среднего и высшего образования, которая не выдерживала сравнения с динамично развивавшейся «социалистической школой» ГДР. Система государственных стипендий расширила доступ в университеты детей из семей с низкими доходами, начался пересмотр учебных программ с точки зрения их практической пользы. Одним из условий формирования «большой коалиции» было обязательство провести реформу избирательного права, чтобы перейти к мажоритарной системе определения победителя. За этим стояло желание партнеров по коалиции утвердить в ФРГ двухпартийную систему по типу американской, чтобы избавиться от «политического довеска» в лице СвДП. Однако планы подобной реформы были отправлены в архив, поскольку руководство социал-демократии все больше склонялось к перспективе союза со свободными демократами после предстоявших осенью 1969 г. парламентских выборов.
Не оправдались и надежды на поворот в восточной политике ФРГ, хотя и здесь пробивались ростки новых подходов. «Доктрина Хальштейна» была окончательно сдана в архив, в Бухаресте и Белграде появились западногерманские посольства. Летом 1967 г. начались эпистолярные контакты Кизингера и председателя совета министров ГДР Вилли Штофа. Камнем преткновения оставалось нежелание правительства ФРГ признавать послевоенные границы и существование ГДР. Расхождение позиций партнеров по «большой коалиции» в этих вопросах становилось все более заметным. Социал-демократы во главе с Брандтом демонстрировали готовность к «риску перемен», реагируя на импульсы со стороны предпринимательских кругов, рассчитывавших на советский рынок, а также левого молодежного движения, в целом солидарного с «социалистическим экспериментом» в Восточной Европе.
Применительно к 60-м годам ученые говорят о завершении «индустриальной революции», сопровождавшие ее социальные процессы приобрели необратимый характер. Число лиц физического труда в ФРГ за десятилетие уменьшилось на 30 %, в сфере работающих по найму оно сравнялось с числом служащих и чиновников. В крупных городах окончательно исчезли пролетарские кварталы (которым и так досталось более всего от бомбардировок англоамериканской авиации в годы второй мировой войны), вместе с ними исчезла и специфическая субкультура – противостояние «верхам», солидарность и чувство локтя, стабильное голосование за своих кандидатов. Достигнутый уровень материального благосостояния общества вел к трансформации социальной политики – отныне она уже выступала не как помощь сирым и убогим, а как гарантия достойного существования для всех. Государственное страхование от нужды увеличивало склонность молодого поколения к поиску нового «постматериального» стиля жизни, делало его все более независимым от стартовой помощи родителей.
В свою очередь дети в новых условиях перестали восприниматься массовым сознанием как гарантия обеспеченной старости, что вело к падению рождаемости и преобладанию малой семьи, быт которой формировали уже не нормы морали, а материальные возможности. Законодателем мод становится телевидение. После того, как развитие техники сделало возможным прямые трансляции, социологи заговорили о «телекратии». Число телеприемников в ФРГ за 60-е годы выросло в четыре раза, популярные передачи собирали у их экранов большинство взрослого населения страны и подспудно вели к выравниванию стиля жизни и норм поведения западных немцев. Очевидно, с этим было связано и победное шествие журналов мод, и пик популярности книг о правилах хорошего тона. Телевизор изменил не только потребности, но и распорядок дня, открыв людям возможность проведения досуга в домашних тапочках. Программа передач на неделю стала семейной библией общества потребления.
И все же «послевоенная эпоха закончилась» совсем не так, как предполагал Эрхард. Опросы общественного мнения показывали поляризацию настроений при общей тенденции смещения политических симпатий влево. Совпадение экономического кризиса и избирательных успехов НДП только подлило масла в огонь. Общественное мнение в целом негативно восприняло появление «большой коалиции» как шаг в прошлое (сам Кизингер и несколько министров являлись в свое время функционерами НСДАП), формирование «олигархического однопартийного государства». Свободным демократам не хватало массового влияния для исполнения роли парламентской оппозиции, тем более что эта элитарная партия не пользовалась популярностью у молодежи, которая в конце 60-х гг. стала главным актером политического протеста.
Задолго до бурных событий весны 1968 г. западные социологи заговорили о революции поколений. «Отцы», имевшие твердую точку отсчета – «час ноль» 1945 г. и измерявшие оттуда свой успех, уступили место на политической авансцене «детям», недовольным собой и окружающим миром. Мини-юбки, прически под «Битлз» и сексуальное раскрепощение казались уже недостаточным средством выражения этого недовольства. Дети «экономического чуда» захотели политических чудес, им совсем не нравился дом, который построил Аденауэр. Они мечтали о советском самоуправлении и партизанских рейдах Че Гевары, учили наизусть высказывания Мао и протестовали против войны во Вьетнаме. Речь шла не только о большой политике, но и об образе жизни. Новое поколение хотело на себе испробовать пределы возможной свободы. Студенты захватывали пустующие здания, чтобы провозгласить в них коммуны с коллективным воспитанием детей, издавали собственные газеты, напоминавшие боевые листовки. Под лозунгом «запрещается запрещать» следовало взорвать рамки косного общества, выкинув заодно из университетов вековой хлам вместе с профессорами. Место «деидеологизированной» апологетики умирающего капитализма должна была занять теория освобождения, опиравшаяся на ренессанс марксизма и критическую школу социальной философии. Г. Маркузе, Ю. Хабермас, Т. Адорно стали живыми идолами студенчества, хотя далеко не все разбирались в их теориях.
Покушение на одного из лидеров молодежного протеста Руди Дучке (11 апреля 1968 г.) вызвало ответные акции его сторонников, заставившие прессу говорить о самой жаркой неделе в истории ФРГ. Это можно было понимать в прямом и переносном смысле – студенты пытались поджечь универмаги и здания концерна Акселя Шпрингера, считая его бульварные газеты подстрекателями мещанского протеста. Эскалация насилия совпала с обсуждением в бундестаге конституционных законов, предусматривавших действия исполнительной власти в условиях чрезвычайного положения. Оппозиционные силы, помня о печальном опыте соответствующих статей веймарской конституции, увидели в этом попрание конституционных прав граждан, наступление реакции и даже (в понятиях левых радикалов) «реставрацию западногерманского империализма». В «звездном марше» на Бонн, организованном федеральным центром профсоюзов для того, чтобы помешать принятию законов, приняло участие более 50 тыс. человек. На самом деле символика чрезвычайного законодательства, принять которое не смогла ни одна из предшествующих коалиций, заключалась в ином. Законодательная власть продемонстрировала способность к принятию непопулярных решений, идущих наперекор массовым настроениям. Этого в свое время не хватило веймарским парламентариям, неспособным противостоять давлению старых элит и новых радикалов. 30 мая 1968 г., когда бундестаг двумя третями голосов проголосовал за законы о чрезвычайном положении, стало последним аргументом, превратившим расхожую формулу «Бонн – не Веймар» из пожелания в реальность.
Признавая приоритет международных факторов, вызвавших к жизни молодежное движение конца 60-х гг., западногерманские политологи с гордостью подчеркивают его национальную специфику. «Главной заслугой молодежного протеста стало разрушение стереотипов повседневной политической культуры – мы стали более открыто говорить, свободней думать, социальный контроль над личностью стал менее жестким» (Ф. Брандес). В то же время «внепарламентская оппозиция доказала то, что она пыталась опровергнуть своими действиями: способность демократической системы к самореформированию» (Г.А. Винклер). Эпатаж молодежного протеста покончил с верой во всесилие «отца-государства» (Obrigkeitsstaat) и поставил вопрос о моральном измерении большой политики. Символично, что в современное западногерманское правительство входит несколько ведущих политиков, чья карьера начиналась на демонстрациях и митингах весны 1968 г. Впитав в себя движение молодежного протеста, политическая система ФРГ сдала экзамен на зрелость, хотя свое совершеннолетие западногерманское государство и его первое поколение встретили по разные стороны баррикад.
На этом делают акцент те историки, которые считают молодежные протесты конца 60-х гг. деструктивными и ставят их в один ряд с подъемом правого радикализма. Волна насилия «избалованных детей» поставила под вопрос результаты двух десятилетий политического строительства. «Левые экстремисты бросили вызов либеральному государству», представление о них как о прогрессивной силе является мифом симпатизировавших им средств массовой информации (К. Хильдебрандт). Реабилитация лидерами молодежи коммунистической идеологии и раздувание антиамериканских настроений ставили под вопрос место Западной Германии в сообществе демократических государств и противодействовали политике разрядки международной напряженности. К. Зонтхаймер считает избавление общества от «детской болезни левизны» и политики от антипарламентской оппозиции символом второго рождения ФРГ.