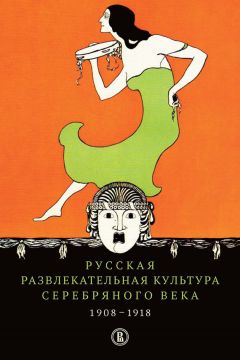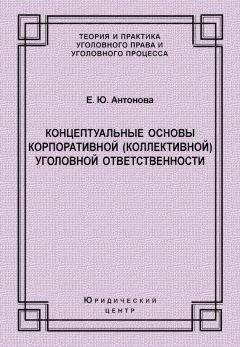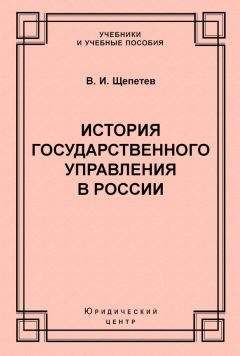Тем не менее Толстой не обязательно оперирует четкими социологическими категориями. Заказчики нового искусства, цель которого – развлекать и оглуплять толпу, сами попадают в расставленные ими же сети поддельного искусства и становятся его потребителями. Тип буржуа-производителя или потребителя подражательной культуры возникает как из среды лакеев, жаждущих вознестись над своим классом, так и из среды дворянства, подпавшего под соблазны городской культуры, что мы видим на примере Ивана Ильича, украшающего свою квартиру подделками, призванными изображать аристократический быт, и приносящего им в жертву свою жизнь – жизнь не настоящую, а поддельную, являющуюся скорее предметом потребления, чем переживания[106].
Итак, развлекательная культура, культура подражания, которую Толстой критикует в трактате «Что такое искусство?», проявляется не только в поведении, не только в выполняемых на заказ произведениях, она оставляет свой след и на обстановке гостиных. Войдем в гостиную Ивана Ильича: «В сущности же было то же самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и поэтому только похожи друг на друга <…> все то, что известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание: но ему все это казалось чем-то особенным»[107].
Описание это дано на первых страницах повести. Такая гостиная – фон, на котором будут разворачиваться картины бренности бытия. Автор рисует их перед героями, как бы адресуя им некое послание, призывая их опомниться. Большинство из адресатов выбирает именно этот фон в качестве среды обитания, уходя от «содержания» мира и обрекая себя тем самым на богооставленность[108], тогда как Иван Ильич – ценой страдания – в конце концов переходит из плана декоративности в план событийности, принимая навязанное автором откровение[109]. Фон этот цепляется за человека, стремясь растворить его в себе: «Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантильи за резьбу стола»[110].
Низший мир – низший в силу своей декоративности и претензии на оригинальность, скрывающей банальность (вспомним «хозяйство», устраиваемое Платоном Каратаевым: там вещи – полноценные участники бытия), – претендует на самостоятельность и диктует свои законы. Следует сцена борьбы Петра Ивановича с пуфом, вполне вписывающаяся в тему «бунта вещей», которая получит особое развитие в XX веке. Пуф неудобен и не нужен; стол оказывается резным, декоративным.
Проведем параллель с высказыванием Вальтера Беньямина из его работы «Опыт и бедность»: «Когда входишь в буржуазную гостиную восьмидесятых, какой бы она ни была уютной, основное впечатление таково: тебе здесь нечего делать. Делать тебе здесь нечего, ибо нет ни одного уголка, на который ее жилец не наложил бы свой отпечаток: безделушки на полочках, салфеточки на мягких креслах, прозрачные занавеси на окнах, экран перед камином»[111].
Впечатление будто мы оказались в гостиной Ивана Ильича, где царит переполненное, уплотненное до предела пространство: «Штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюды и тарелки по стенам и бронзы»[112]. Здесь не только нам, но и ему самому нечего искать, по той простой причине, что «нечего» в виде «ничто» уже явлено: «<…> Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее»[113].
«Тебе здесь нечего делать» Беньямина перекликается с толстовским «делать с ней нечего»[114]. Речь идет о смерти: конкретное явление ее Ивану Ильичу по сути опредмеченное «ничто». Смерть показывается среди вещей, «явственно глядит на него из-за цветов»[115], обнажая их неподлинность («неужели только она – правда?»[116]) и «отвлекая» Ивана Ильича в свою очередь от «отвлечений», которые до сих пор позволяли не думать о ней. Одним из таких «отвлечений» являлось для него «дело». Толстой определил Ивану Ильичу такой род деятельности, при котором дело – не только работа вообще, но и судебная процедура как таковая. «Развлечься» деятельностью отныне становится невозможным: «Она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился»[117]. Отметим навязчивое повторение на одной странице, иногда в одной фразе, слова «дело» в его различных значениях: «Но – странное дело – все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия»; «И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения <…> так же, как обыкновенно <…> подвигая дело <…> начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала свое сосущее дело. <…> Он <…> возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него того, что он хотел срыть; что судейским делом он не может избавиться от нее»[118].
Дело Ивана Ильича, стоящее в одном экзистенциальном ряду с развлечением, является в представлении Толстого делом безнравственным. Иван Ильич обладает властью, причем властью судебной, Толстым отрицаемой. И пусть Иван Ильич не злоупотребляет ею, он все равно стоит на стороне насилия, за что Толстой его и карает, требуя от него раскаяния. Теперь Ивану Ильичу предстоит самому испытать то, что прежде от него претерпевали другие. Визит к доктору оборачивается для него судом: «Все было, как он ожидал <…>. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде <…>. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид. <…> Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. <…> Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено (Курсив мой. – Л. Ю.). Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером»[119]. Болезнь настигла Ивана Ильич не случайно. В поисках развлекающего «ничто» он сам обрек себя на то, чтобы сделаться этим самым «ничто».
Толстой далеко не первый, кто восстает против массовой культуры в различных ее проявлениях. Гуманистическая культура воспринимает себя критически[120]. Осуждая «общество спектакля», Толстой присоединяет свой голос к давно звучащему хору. Одновременно, в своем неприятии неподлинного искусства, которому вменяются в вину его профессионализм, его широкое распространение и декоративность, он предваряет мыслителей XX века, подвергнувших критике китч.
Так, Г. Брох и Р. Музиль воспринимают китч как самостоятельную систему, имитирующую подлинное искусство[121]. В. Беньямин и Т. Адорно в своих далеко не однозначных работах рассматривают массовую культуру как наследие романтизма и его позднейшего витка – символизма, видя в этом результат самодостаточности искусства («чистое искусство»)[122].
Читаем у Германа Броха: «В этом театральном искусстве, благодаря которому XVIII век продолжал жить в сердце XIX», буржуа нашел «всю декоративную красивость, в которой нуждался <…> чтобы удовлетворить свою потребность наслаждаться искусством и жизнью без опасности для себя, предаваясь наслаждению столь же помпезному, сколь и легкомысленному»[123]. Сравним это высказывание с позицией Толстого в «Смерти Ивана Ильича», приведшей к полному развенчанию театрального действа в трактате «Что такое искусство?»: «Была приезжая Сара Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтобы они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтобы они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение»[124].