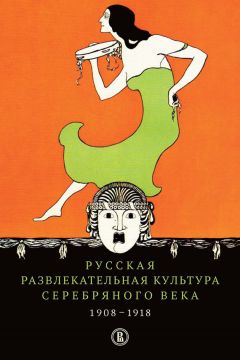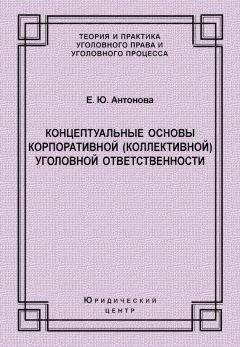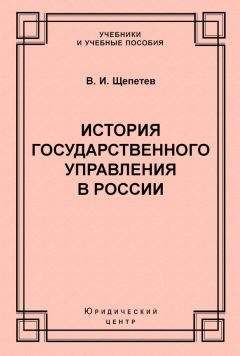«Боязливые хлопоты»: растиражированный человек
Что развлекает, то отвлекает – от главного, то есть от осознания бренности бытия: вспомним Петра Ивановича, который, стоя у гроба Ивана Ильича, мечтает «повинтить»[83]. Представители высшего класса стремятся за игрой отвлечься от мыслей о смертной природе человека, о чем свидетельствует сам их вид: «Торжественность, противоречащая характеру игривости Шварца»; «Шварц, с <…> игривым взглядом движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца»; «Шварц ждал его <…> играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича»; «Нет основания предполагать, чтобы инцидент этот (То есть смерть Ивана Ильича. – Л. Ю.) мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер»[84]. Первая главка заканчивается поездкой Петра Ивановича к Федору Васильевичу, у которого он застал своих друзей «при конце 1-го робера, так что ему удобно было вступить пятым»[85]. Да и для самого Ивана Ильича игра в карты составляет одно из главных удовольствий, позволяющих забывать о тяготах жизни. «<…>Настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая как свеча горела перед всеми другими, – это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт <…> потом поужинать и выпить стакан вина»[86]. И лишь когда мысль о смерти внедряется в его существование, игра и развлечения становятся ему ненавистны: «Смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ритурнели.) Им все равно, а они так же умрут. Дурачье»[87].
Развлекательная культура приводит к созданию бессобытийного мира, где общие, бесконечно растиражированные модели поведения, раскрывающиеся в потреблении одинаковых предметов и ценностей, вытеснили саму возможность личного переживания: «Ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду»[88]. В этом контексте невозможно «присутствие», человек выведен из бытия, рассеян в мире, модус взаимодействия с которым – бессмысленная занятость.
Такое представление о развлечении восходит отчасти к Паскалю, у которого читаем: «Причина тяги к развлечениям коренится в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом – и уже ничто не может нас утешить»[89]. Но оно также предвосхищает хайдеггеровское рассеяние, характеризующее неподлинное существование человека. Хайдеггеровские «боязливые хлопоты» – пребывание в настоящем, в повседневности, уход от ужаса «ничто» – вполне применимы к Ивану Ильичу. Читаем у Хайдеггера: «Мы наслаждаемся и забавляемся, как люди наслаждаются; мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как люди видят и судят; но мы и отшатываемся от “толпы”, как люди отшатываются; мы находим “возмутительным” то, что люди находят возмутительным»[90]. Для описания этой диктатуры безличного или срединного Хайдеггером используется неопределенно-личное местоимение «das Man» (sic!), близкое к русскому «человек» в аналогичном употреблении. Такого «человека» мы и встречаем у Толстого: это Кай из силлогизма Кизеветтера. Тот самый «другой», которому «правильно умирать», и о котором у Хайдеггера сказано: «Их “кто” не этот и не тот, не сам человек и не некоторые и не сумма всех. “Кто” тут неизвестного рода, люди»[91] (das Man)[92]. Другому, вынашиваемому в самом себе, принадлежащему к неопределенно-общему, предстоит столь же неопределенная смерть, тогда как событие встречи с самим собой, возможное лишь в переживании ужаса, которым приоткрывается «ничто», бесконечно отодвигается в результате погружения в повседневность[93].
Развлечение у Толстого – именно то, что создает рассеяние, позволяет удержаться в наличном, растворяет человека во множественности. Иван Ильич выбирает «такое времяпровождение <…> которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиная его была похожа на все гостиные»[94]. Отметим, что вся жизнь Ивана Ильича – та жизнь, неподлинность которой раскроется в момент смерти, – основана именно на принципах «усредненности» («все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство»[95]), «комильфотности», то есть соответствия общей модели поведения, и «приятности», а именно постоянного развлечения, рассеянности – этой последней цели служат и его деятельность, и его досуг. Человек, озабоченный повседневностью, отпадает от подлинного бытия, он – и обыденность Ивана Ильича делает это явным[96] – один из экземпляров бесконечно растиражированного оттиска, копия, не имеющая оригинала[97], ибо все копируют всех, то есть некий отчужденный, во всеобщем пользовании пребывающий образ.
Человек развлекающийся – заказчик и потребитель неподлинного искусства
По мере того, как растет озабоченность Толстого новыми формами жизни, экономическими и культурными, критика салонных развлечений, которую мы встречаем и в ранних текстах (Альберт в одноименном рассказе[98]), и в романах (Левин на концерте[99]), преобретает характер последовательного анализа культуры потребления. Множественность, неподлинность и развлекательность становятся основными признаками дурного, ненужного искусства, развращающего зрителя. Сведенное к показу мастерства – техники (грен. T£yvr|), несущей у Толстого негативную функцию, – искусство, ставшее предметом потребления, оторвалось от своего первичного назначения – снятия покровов с бытия (чем является, например, творчество Михайлова в романе «Анна Каренина»[100]), и превратилось в способ поддержания господства над массами, один из видов общественного насилия: «Пора людям высших классов понять, что то, что они называют цивилизацией, культурой, есть только и средство и последствие того рабства, в котором малая часть нерабочего народа держит огромное большинство работающих»[101].
Критика Толстого, как известно, направлена на культуру, создаваемую высшими классами для своего же потребления и способствующую эксплуатации народа. «Люди высших классов требуют развлечений, за которые хорошо вознаграждают»[102]. В представлении Толстого эту функцию развлечения берет на себя искусство: «Если бы не было того, что называется искусством, не было бы того развлечения, забавы, которая отводит этим людям глаза от бессмысленности их жизни, спасает их от томящей их скуки»[103]. Искусство, поставленное на службу развлечению, перестает таковым быть. Неповторимости художественного творения противопоставляется размноженность подделок.
Под господствующим классом, заказчиком новой культуры, Толстой понимает не обязательно аристократию, а скорее всего новый класс «просвещенной черни», то есть буржуазию, для которой и создается псевдоискусство. Толстовский потребитель – представитель новой цивилизации, которого мы могли наблюдать в образе лакея Петра в повести «Смерть Ивана Ильича», где он противопоставлен Герасиму. Человек из народа, Петр стремится овладеть барской культурой (его потомки – чеховские лакеи). Кстати, задаваясь вопросом о потребителе – «Для кого это делается? Кому это может нравиться?» – Толстой отвечает: «Никак не поймешь, на кого это рассчитано. Образованному человеку это несносно, надоело; настоящему рабочему человеку это совершенно непонятно. Нравиться это может <…> набравшимся господского духа, но не пресыщенным еще господскими удовольствиями, развращенным мастеровым, желающим засвидетельствовать свою цивилизацию, да молодым лакеям»[104]. Потребителем нового искусства, в частности искусства Серебряного века, у Толстого выступает «толпа», противостоящая «массе», то есть полуобразованная мещанская среда. Для того чтобы господские развлечения стали достоянием «толпы», надо было возникнуть поддельному искусству. «Толпу, да еще городскую, наполовину испорченную, всегда было легко приучить, извратив ее вкус, к какому хотите искусству. Кроме того, искусство это производится не этой толпой и не ею избирается, а усиленно навязывается ей в тех публичных местах, в которых искусство доступно ей»[105].
Тем не менее Толстой не обязательно оперирует четкими социологическими категориями. Заказчики нового искусства, цель которого – развлекать и оглуплять толпу, сами попадают в расставленные ими же сети поддельного искусства и становятся его потребителями. Тип буржуа-производителя или потребителя подражательной культуры возникает как из среды лакеев, жаждущих вознестись над своим классом, так и из среды дворянства, подпавшего под соблазны городской культуры, что мы видим на примере Ивана Ильича, украшающего свою квартиру подделками, призванными изображать аристократический быт, и приносящего им в жертву свою жизнь – жизнь не настоящую, а поддельную, являющуюся скорее предметом потребления, чем переживания[106].