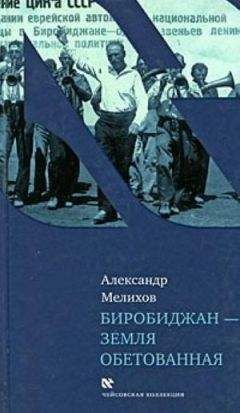и беспредела. Сталин не мог позволить себе сказать прямо: расстреляйте его, потому что он вызывает у меня опасения (нет человека – нет проблемы), – даже он должен был притворяться, будто верит в какие-то шпионские или троцкистские связи, а потому и требовал, чтобы эти несуществующие связи извлекли наружу. А как заставить человека признать то, чего нет? Отсюда и пытки.
Но поговорить все-таки хочется не о Фадееве и не о Сталине, о коих и без того написано немало (жаль, мало кто их видел поверх заборов, особенно Вождя – надежных источников о его личности практически нет, одни слухи и домыслы), а о Нилине, причем не только о сыне, но и о подзабытом ныне его отце, Павле Нилине, перед войной вознесенном на литературный олимп вместе с первой серией фильма «Большая жизнь» («Спят курганы темные») и низвергнутом оттуда вместе со второй послевоенной серией, где шахтеры самым антисоветским образом восстанавливали добычу угля без помощи передовой техники. Я перечитал нилинские бестселлеры пятидесятых «Испытательный срок» и «Жестокость» и обнаружил, что если не фиксироваться на неизбежном идеологическом схематизме, занимающем не так уж много места, а сосредоточиться на фоне, на второстепенных фигурах, то откроется великолепный безжалостный реалист. Сохранивший такую верность жестокому миру своей молодости, что в либеральное время он мог показаться человеком не от мира сего.
«Высоцкий мне потом говорил: «Потрясающий мужик. Он моих песен, оказывается, не слышал. А меня перепутал с Золотухиным – сказал, что мы виделись утром на вокзале, а на вокзале утром был Валера». Павел Нилин ничего не знал и о таких народных героях, как Чебурашка и крокодил Гена, хотя, по мнению сына, отец все-таки придуривался, когда спросил Эдуарда Успенского: «А вы какой Успенский? Тот, что «Растеряева улица»?»
Зрение писателя, похоже, так и осталось в том зимнем дворе уголовного розыска, куда сваливали мерзлые трупы «белогвардейских недобитков», изображенных и при жизни, и после смерти поистине с шолоховской силой. После такого трудно серьезно отнестись к светской жизни писательского бомонда.
Нилин-сын тоже не нажил почтительности к литературным генералам, причем не только от власти, но и от оппозиции.
О Солженицыне: «Сейчас, на похоронах Лидии Корнеевны, он сама солидность. Литературные генералы, что жили тогда в конце аллеи классиков, и при полном параде, со всеми флажками своими депутатскими и звездами геройскими, даже рядом с заматеревшим Солженицыным не встали бы».
Трудно сказать, что мешало автору в общении со всевозможным начальством – чувство собственного достоинства или некое целомудрие.
После триумфального возвращения Сахарова из ссылки у рассказчика появляется возможность в качестве соавтора принять участие в фильме о легендарном академике. По цепочке личных знакомств он выходит на Боннэр, и та передает трубку Сахарову.
«Я излагаю академику замысел фильма о нем. Он с удивившим меня смешком говорит, что не очень верит в санкцию верхов на такой фильм: «Награды мне еще не возвращены». Договариваемся созвониться вновь – теперь я знаком с академиком Сахаровым. Фраза про награды меня сначала чуть коробит – зачем ему награды? Но я уже настраиваюсь на фильм – и внушаю себе, что награды не самому Сахарову нужны, а всему диссидентскому движению – как аргумент в полемике с властями. И я бы позвонил Сахарову еще раз, если бы не встретил во дворе Лешу Симонова. Он рассказал, что ему звонила Люся (он так называет Боннэр) и спрашивала про меня, из какой я семьи. И Леша дал мне (и моей семье) наилучшую аттестацию.
Мне вдруг расхотелось делать картину про Сахарова. И ни Сахарову, ни Наумову я больше не звонил».
Автор, однако, к себе строг ничуть не менее, чем к другим, и признается, например, в том, что однажды написал рецензию на Георгия Маркова, прибавив в качестве комментария, что не всегда был лопухом. Признается он и в таких чувствах, к которым снизойдет далеко не каждый читатель: «На людях я отца с матерью обычно стеснялся»; «Я придерживаюсь – внешне, во всяком случае – установленной иерархии, даже если на виду у всех люди незначительные и никак мне не импонирующие».
Внешне – возможно. Но в «романе частной жизни» нет ни тени почтительности к славе, если за нею нет заслуг. Александр Нилин посвящает многие страницы московской журналистской богеме… Впрочем, нет, богема пытается заменить художественные достижения образом жизни, а приятелям Нилина всем до одного есть что предъявить, это скорее элита. И все-таки в далеко не худеньком томе из всех его многочисленных персонажей автор остается самым обаятельным и привлекательным, так что начинаешь заранее жалеть, когда книга подходит к концу: не хочется расставаться прежде всего с ее автором.
Когда-то Александру Нилину предсказали, что главное достижение его ждет в третьем двадцатипятилетии его жизни, – осталось ждать уже недолго, с обычной невеселой усмешкой замечает рассказчик. Прочитав его книгу, могу с уверенностью сказать: предсказание сбылось. От книги не хочется отрываться, даже когда о ней пишешь, хочется цитировать и цитировать.
Как вам, например, такая откровенность? «Странным я ни тогда не хотел быть, ни сейчас. Но сейчас меня вроде бы и не обвиняют в странности, наоборот, все более кажусь и себе, и всем элементарным – и слава богу» (бога, заметьте, автор пишет с маленькой буквы вопреки новой патетической традиции).
Или еще: «Из моего рассказа о пребывании на руководящих постах мы увидим, что я все делал для любви ко мне сослуживцев, но почти всегда достигал обратного эффекта».
Автор сохраняет редкую стойкость не только в духовном мире.
«В клинике мне сделали около дюжины операций – после первой, самой серьезной, семичасовой – разной степени серьезности и покороче.
Я пережил увлечение хирургами, как в детстве – футболистами.
Нравилось, что операции меня больше не пугают – наоборот, появился азарт, словно сам я себя оперирую (наступаю на болезнь)».
И тут же самокритичное признание: «Внешне я, как всегда, хорохорился. И когда в клинике сказали, что направляют меня в институт Герцена, тут же козырнул знакомством с профессором Софьей Львовной Дарьяловой».
Честное слово, многим мемуаристам неплохо бы у Нилина поучиться.
Вот знаменитая Гертруда Стайн в автобиографии, написанной как бы от имени ее подруги («Автобиография Элис Би Токлас». СПб., 2006), похоже, надеялась, что если козырять громкими именами, начиная с собственного, то больше ничего и не требуется.
«Во главе стола высилось новое приобретение, тот самый Руссо, украшенный венками и флагами и с обеих сторон стояли две статуи, что это были за статуи я уже не помню», – прошу корректоров не добавлять недостающих запятых, помня, что перед ними не