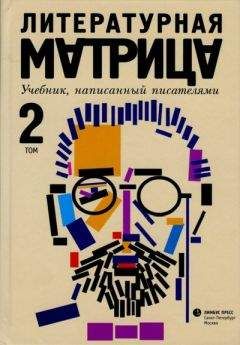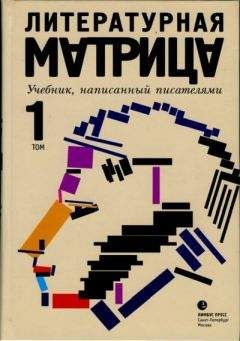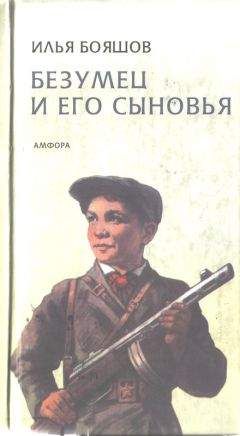В нанесении ударов этой дубинкой тогда появился и новый прием: государство стало оперировать почти в три раза большим числом погибших на войне (не семь, а двадцать миллионов). Это был сильный ход для оправдания в массовом сознании продолжающейся оккупации Восточной Европы, подавления периодически возникавших там освободительных движений. Появление новой цифры сопровождалось единственным комментарием: «из них не менее половины были мирные жители». Отсутствие каких-либо объяснений по поводу того, как появилась эта цифра и почему до этого фигурировала другая, не говоря уже о проблемах, могущих возникнуть при подсчете потерь («вторая эмиграция», использование советской территории для уничтожения западноевропейских евреев, включение или не включение в нее воевавших на стороне противника или против всех), создавало атмосферу некой священной тайны для лояльного большинства и всевозможные легенды среди растущей оппозиционной интеллигенции. Так до сих пор для либерального сознания цифра в семь миллионов — «преступная советская ложь», тогда как на самом деле это достаточно достоверная цифра исключительно боевых потерь (уравнивание их с потерями мирного населения было для героического сознания умалением подвига, а включение в их число сдавшихся в плен, а затем умерших в лагерях для военнопленных — просто кощунством). К слову, нужно заметить, что происшедшее в 1990-е годы увеличение цифры военных потерь еще на семь миллионов возникло из включения в это число потерь демографических, так называемой сверхсмертности, то есть превышения смертности на оккупированных территориях в военные годы над довоенным уровнем. (При этой же методике расчетов сверхсмертности можно заключить, что за восемь лет президентства Ельцина погибло три с половиной миллиона наших сограждан: поскольку в 1984–1991 годах в РСФСР умерло четырнадцать с половиной миллионов человек (естественный уровень смертности), а в 1992–1999 годах — восемнадцать миллионов, то разница цифр и определяет уровень сверхсмертности.)
11
Лирика не могла вместить ни поэтику, ни амбиции Твардовского. После двух военных поэм тридцатисемилетний автор искал тему для новой. Этой темой стала вполне официозная «творческая командировка» по Транссибирской магистрали, с кульминацией в сцене перекрытия Ангары (строительство Иркутской ГЭС). Новая поэма получила казенно-оптимистическое название «За далью — даль», и ее написание (1950–1960) совпало с изменением режима, произошедшим после смерти Сталина. Арест аппарата Министерства госбезопасности (июнь 1953), «закрытый» (т. е. не публиковавшийся в печати) доклад Хрущева на XX съезде КПСС с осуждением Сталина (февраль 1956), политический разгром хрущевских оппонентов: Молотова, Маленкова, Кагановича и Булганина (июнь 1957) привели к значительным переменам во всем, в том числе и в идеологии. К уже готовому пропагандистскому сочинению Твардовский приделывает новый финал («Так это было»), представляющий собой литературное упражнение на тему хрущевского доклада. За это ему, первому из русских поэтов (из нерусских — посмертно реабилитированный Муса Джалиль, Максим Рыльский и Мирзо Турсун-заде), присуждают вновь учрежденную (взамен упраздненной Сталинской) Ленинскую премию (1961).
Парадоксальным образом при полном запрете на какую бы то ни было критику общественных институтов в годы сталинизма Твардовский находил способ нетривиального самостоятельного высказывания, теперь же открывшаяся возможность быть «в меру» критичным создавала риск превращения его в одиозного пропагандиста. Возможно, причина крылась в том, что он следовал изжившей себя вместе с романтизмом модели поэта как народного трибуна, учителя и проповедника, тогда как в условиях продолжающейся (пусть в более мягких формах) диктатуры единственной морально состоятельной позицией могла быть позиция поэта как частного лица, которая как раз в эти годы начинала удачно срабатывать в Восточной Европе и, отчасти, в советских республиках Прибалтики.
Соблазн обратиться с речью «к народу», то есть обратиться, в каком-то смысле, от лица власти и, следовательно, почувствовать себя частью этой власти, был настолько силен, что поэт уже не замечал главной подмены в хрущевском докладе: политические репрессии, в ходе которых было расстреляно около миллиона человек и почти четыре миллиона брошены в лагеря, где не менее одного миллиона погибло, и депортация более пяти миллионов человек (сначала — кулаки, затем — антисоветские элементы из вновь присоединенных земель, наконец — «народы-предатели»), в результате которой опять-таки не менее полумиллиона погибло, гибель от голода нескольких миллионов в 1933 году (юг России, Украина, Казахстан); то есть гуманитарная катастрофа подменялась неким неопределенным понятием культ личности, досадной помехой на «верном пути», стоившей жизни «руководящим работникам» (Хрущев называет цифру в семь тысяч реабилитированных, «из них многие — посмертно»). Тогда же в сознание вошли и такие лживые эвфемизмы[414], как «нарушение ленинских норм», «необоснованные репрессии», «восстановление честного имени». Именно эта подмена в условиях закрытого общества родила в те годы в умах и душах травмированных и не могущих выговорить свою травму людей миф о циклопическом, в десятки миллионов, числе жертв «коммунизма».
12
К счастью для Твардовского, в шестидесятые годы ему представилась возможность непосредственного участия в политической жизни: в 1958 году он был назначен на «номенклатурный» пост главного редактора литературного журнала «Новый мир». Этот пост он уже однажды занимал (с 1950 по 1954), но был снят за преждевременную смелость. Кроме того, на XXII съезде (том самом, где было принято решение о выносе тела Сталина из мавзолея) его избрали кандидатом в члены ЦК КПСС (1961).
«Новый мир» Твардовского — важнейшее событие в литературной жизни 1960-х годов. Поддерживаемый Хрущевым, журнал был сохранен новой правящей группировкой и после устранения Первого секретаря компартии — как форма декоративного либерализма, однако его читатели, авторы, да едва ли и не сам главный редактор, видели в этом издании форму легальной оппозиции, что не совпадало с намерениями властей и действительно приняло характер противостояния.
За двенадцать лет «Новый мир» создал советскую литературу нового типа: оставаясь «советской» по форме (ни малейших следов участия в общеевропейских эстетических движениях, даже в неореализме), она научилась в атмосфере тотальной идеологизации ставить общественно значимые проблемы, обходя запреты цензуры. «Один день Ивана Денисовича» (1962) и «Матренин двор» (1963) Александра Солженицына, «Джамиля» (1958) и «Белый пароход» (1970) Чингиза Айтматова, «Мертвым не больно» (1966) и «Сотников» (1970) Василя Быкова, «Обмен» (1969) Юрия Трифонова, «Две зимы и три лета» (1968) Федора Абрамова, с одной стороны (пусть и не сразу), увенчивались государственными премиями (Солженицына, впрочем, забаллотировали в последний момент), с другой стороны — отчетливо дистанцировались от официоза.
Однако, занимая собственную политическую позицию и беря на себя роль вождя фронды, Твардовский не придавал особого значения позиции эстетической, не видел в этом актуальной проблематики, в результате чего «Новый мир» так и не вышел за рамки «советскости» и стал постепенно терять свой новаторский потенциал. Даже внутри советской литературы (прежде всего в журнале «Юность» при главном редакторе Борисе Полевом) стала пробиваться проза совсем других настроений, рассказывающая о совсем других героях: Василий Аксенов (1932–2009), Андрей Битов (род. 1937), Фазиль Искандер (род. 1929). («Мы — городские парни, настроенные чуть иронически ко всему на свете, любители джаза, спорта, модного тряпья…» — говорит о себе персонаж «Коллег» Аксенова). Тогда же журнал «Иностранная литература» приоткрыл щель в «железном занавесе» эстетики, опубликовав Франца Кафку, Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско.
Но особенно заметна эстетическая глухота Твардовского-редактора в области поэзии. Именно здесь в 1960-е годы произошло наиболее радикальное обновление: если оставить в стороне попавших в официальное пространство Андрея Вознесенского (1933–2010) и Евгения Евтушенко (род. 1933) и свободолюбивых, но достаточно традиционных Иосифа Бродского (1940–1996), Наталью Горбаневскую (род. 1936), Станислава Красовицкого (род. 1935), мы столкнемся с такими революционными явлениями, как Генрих Сапгир (1928–1999), Всеволод Некрасов (1934–2009), Геннадий Айги (1934–2006), Виктор Соснора (род. 1936).
Особенно показательны двое последних: они, вообще говоря, издавались в СССР, но места им на страницах «Нового мира» не нашлось. Там печатались из года в год одни и те же авторы: из «патриархов» — Анна Ахматова и Самуил Маршак, из «стариков» — Степан Щипа-чев и Александр Прокофьев, из «ровесников» — Николай Рыленков и Маргарита Алигер, из «фронтовиков» — Михаил Луконин и Давид Самойлов, из будущих «отщепенцев» — Инна Лиснянская и Семен Липкин, из «молодежи» — Римма Казакова и Новелла Матвеева. Их стихи могли быть хороши или плохи — это было непринципиально, так как они не создали даже советскую поэзию нового типа (хотя о возникновении особой «новомирской» прозы говорить как раз можно), как это сделали Вознесенский и Евтушенко.