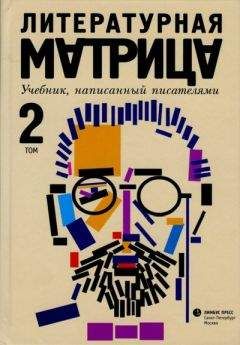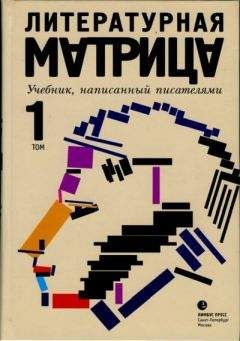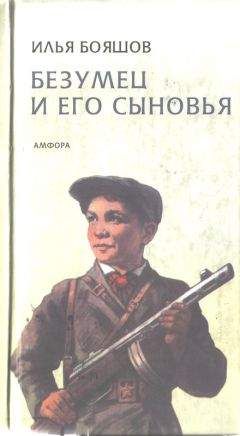Привычной героико-романтической реакции ожидали правящие круги Европы и в 1914-м. Но, вынужденные пойти на беспрецедентную до этого массовую мобилизацию и столкнувшиеся с многомиллионными потерями, они оказались перед фактом переноса в общественном сознании разговора о войне в совершенно иной ракурс: внимание переключилось с героев на жертв. Искусство также увидело не «славный час и славный вид» «удалого боя», как могли себе позволить выражаться Пушкин и Лермонтов, а окопы, заваленные экскрементами и кишащие крысами и вшами.
Относительно демократическое устройство Германии с Австро-Венгрией на одном полюсе и Франции с Англией на другом отправило в эти окопы (пусть в разных чинах) выходцев из всех слоев общества. В России же сословное устройство позволяло выходцам из привилегированных слоев избежать такого опыта. Из известных к началу военных действий литераторов на фронте оказался один Гумилев, и то по собственной инициативе.
На первых порах большевистская позиция была на острие общеевропейского антивоенного движения, но ее радикалистский, поначалу скорее умозрительный лозунг о перерастании войны наций в войну классов, перейдя из сферы умозрения в сферу практики, законсервировал русское общественное сознание на довоенном уровне. Сделать это оказалось тем легче, что людей «из общества» среди участников мировой войны было относительно мало: они в основном принадлежали к социальным низам и потому могли служить идеальным объектом для эксперимента по «воспитанию нового человека». Постепенно произошла подмена идеи последнего решителвного боя с капиталом и его самым страшным порождением — войной между государствами — идеей войны за социалистическое отечество (понятие, совершенно чуждое марксизму). Мир снова разделился на своих и чужих не по социальному, а по территориальному принципу. Но, может быть, самым важным фактором в сохранении героического сознания были опыт Гражданской войны, заслонивший в народной памяти опыт мировой, и практика повседневного общественного насилия, кульминацией которого стали события 1937–1938 годов.
Героическое сознание не может легитимировать рассказ о войне, в котором обсуждалась бы цена человеческой жизни, но и невозможно вести такой рассказ в коллективе, члены которого не вольны что-либо изменить в своей судьбе. В невероятно косной поствикторианской Британии тем не менее существовали определенные механизмы, могущие возбудить общественную дискуссию, на которые и рассчитывали Уилфред Оуэн или Айзек Розенберг, предлагая читателю свои макаберные[409] картины. В сталинском же СССР таких механизмов не было.
Западноевропейцы рассказывали о простом человеке на войне, но не для простого человека на войне. Они видели свою задачу как раз в том, чтобы как можно больнее травмировать читателя, тогда как Твардовский (может быть, и не до конца осознанно) эту травму скрывает, и ее нужно теперь вычитывать. Кроме того, выпускники университетов (пусть и не Оксфорда с Кембриджем), окопные поэты апеллировали к читателям, находившимся на том же, что и они, уровне образования. Не учившийся в средней школе Александр Твардовский разговаривал с аудиторией, едва овладевшей грамотой, и интерпретация такого разговора сегодня, когда утрачена всякая память об этикете той эпохи, представляет собой огромную сложность.
Вообще-то, в «Теркине» интереснее всего оговорки, неотрефлексированные мифологемы, речевой поток, которым маскируется страх.
Так, на предполагаемый вопрос читателя о судьбе героя поэмы автор отвечает, что решил оставить ее без событийного финала: «Почему же без конца? / Просто жалко молодца». Жалко, потому что шансы выжить, проведя четыре года в пехоте, — невелики, и поэт об этом проговаривается. Повторяется подобная оговорка и самим Теркиным в знаменитой главе «О награде» (ее часто исполняли по советскому радио как юмористическую): «Буду ль жив еще? — Едва ли». В другом месте (глава «Теркин — Теркин») герой возвращается после ранения в свою часть, но потери за несколько месяцев были столь велики, что он не застает никого из сослуживцев.
Чрезвычайно интересна выплывшая из стихийного месива представлений, которые и составляют основу идентичности (русской или советской, в данном случае — не важно), фраза: «Что там, где она, Россия, / По какой рубеж своя?» Ее можно понимать двояко: и в смысле того рубежа, дальше которого отступать нельзя (опять-таки, для непредвзятой точки зрения может быть вариант: нужно погибнуть, а может быть вариант: нужно сдаваться), и в смысле того рубежа, именно с которого начиная отступать нельзя и можно погибнуть. Последнее не так парадоксально, если учесть, что граница в том виде, в котором она проходила летом 1941 года, была установлена лишь летом 1940 года, то есть всего год назад, и притом она не была ни исторически освященной (Галичина и Буковина никогда не входили в состав России), ни этнической даже в самом широком смысле этого слова (в Литве или Бессарабии мало кто понимал по-русски). Примечательна оговорка на эту же тему из стихотворения того же времени и той же поэтики «Армейский сапожник»: «Кто знает, — казенной подковки, / Подбитой по форме под низ, / Достанет ему до Сычевки, / А может, до старых границ» (Сычевка — городок на Смоленщине; его упоминание можно интерпретировать как рубеж того, что до революции называлось Великороссией). Вряд ли осознанно, но автор как бы ставит вопрос об оправданности воевать и гибнугь за «новые границы», установленные в результате раздела Польши и оккупации Прибалтики.
Но, пожалуй, самое интересное — маскировка страха: шуткой или описанием физиологических подробностей. Она сопровождает почти все эпизоды, начинаясь на первой странице: уже пятнадцатая строка «сбивает» рассказчика с «поэтической» темы утоления жажды на «прозаическую» тему утоления голода (речь о смерти, а герой, как классический трикстер[410], — о еде). Еда героев Твардовского — не эпическая героическая еда (рельефнее всего изображенная у Гомера), а скорее данная герою возможность удостовериться в том, что он еще жив (так объедаются, обливаясь от слабости потом, умирающие от туберкулеза персонажи «Волшебной горы» Томаса Манна). В другом месте Теркин, поняв, что упавший в шаге от него снаряд не разорвался, справляет на него нужду.
Многое открывает в пороговом состоянии человека на войне и глава «О потере», где старый солдат теряет кисет с табаком, что вдруг оказывается именно той последней чертой, за которой начинается отчаяние («Потерял семью. Ну, ладно. / Нет, так на тебе — кисет!»), — а Теркин, даря ему свой, и тем спасая его, вспоминает аналогичный случай, когда он сам, тяжело раненный, отказывается ехать в госпиталь без потерянной шапки (шапку дарит юная медсестра, снимая с себя, и потом он все принюхивается к ее запаху). Иногда автор бросает на читателя как бы горестный молчаливый взгляд, по которому они друг друга понимают: «И забыто — не забыто, / Да не время вспоминать, / Где и кто лежит убитый / И кому еще лежать».
Есть в поэме и такие места, публикация которых в сталинские годы кажется необъяснимой из-за их сурового реализма. Например, сказанное о генерале: «Скольких он, над картой сидя, / Словом, подписью своей, / Перед тем в глаза не видя, / Посылал на смерть людей!» Или же повторенная несколько раз поговорка Теркина: «Враг лютует — сам лютуй».
Скорее всего, это — ложная постановка вопроса: то, что потрясает или шокирует нас, не обязательно потрясало и шокировало современников. Поговорка Теркина, за которой для нас могут стоять расстрелы военнопленных (в том числе массовые, как в Катыни), мародерство и изнасилования, депортация во время войны «народов, запятнавших себя сотрудничеством с оккупантами», а после войны — немцев из Восточной Европы, в тогдашнем пропагандистском (плакаты на улицах) и литературном контексте звучала, говоря языком героя, «обыкновенно». Так, 19 апреля 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении публичной смертной казни через повешение для «немецко-фашистских злодеев, изменников Родины и их пособников». На улицах висели плакаты «Папа, убей немца!», по радио декламировались стихи: «Так убей же немца, чтоб он, / А не ты на земле лежал…» (Константин Симонов), газетная публицистика была еще радикальнее: «Мы поняли: немцы не люди. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал» (Илья Эренбург). Вообще, жестокость или иерархичность, как в случае с теркинским генералом, сталинской России стала замечаться лишь в позднесоветские годы, когда смягчились и условия жизни, и нравы и когда ее начали проблематизировать шестидесятники.