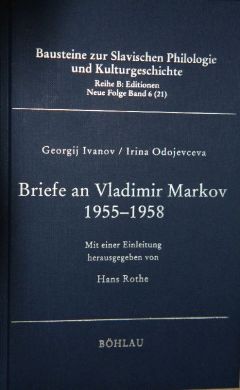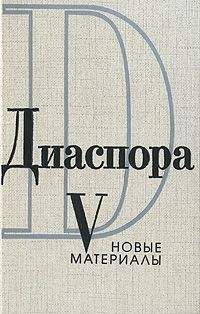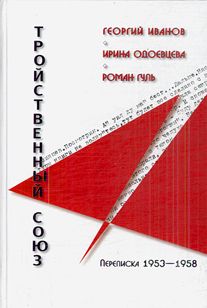Случайно попался мне сборник Золотые ворота[121], с Вашей статьей о Лозинском. Конечно, он замечательный переводчик, но какой же он третьестепенный акмеист? Он третьестепенный [sic] поэт (т. е. как собственное творчество), но он был врагом Акмеизма — считая себя завершителем символизма и этим гордясь. Читали ли Вы «Горный Ключ»[122] — там сплошные турусы на колесах, не хуже Вячеслава Иванова «О дни мои, о золотые диски» и с цепью маленькие руки, похожие на крик разлуки и т. д. и т. д. Он был, несмотря на свои стихи, очень близкий человек к нам всем. Вы бы могли знать (м.б.) его в Ваши аркадские времена. Трудно было быть очаровательней, умней и остроумней, лучше чувствовать поэзию, чем Мих. Леонидович. Его как говорится, нельзя было не любить, и поэзию его все мы рассматривали как бородавку на прекрасном лице. Не точно (фактически), что он перешел на переводы, т. к. возможность личного творчества была отъята. Он до всяких большевизмов и Всемирных Литератур — поразительно перевел например, все «Трофеи» Эредиа черт знает как точно и сохраняя сплошь даже звук рифм. Леконта де Лилля «Эрринии» (или как их там) перевел так же блистательно, тоже до большевиков. И — я читал здесь — большие куски — его Данта, зная его, не считаю, что это его переводческий шедевр. Вот хотя бы Вы приводите как «горестен устам — общенье будет глупых и дурных» — по моему, весьма и весьма не на высоте да и «павлиний хвост» Тристана[123] испорчен переходом, с просто «я» на «я только», надо было бы либо так либо так. М. Л. Лозинский был очень крепко состоятельный человек — добровольно «избравший несвободу». Во время НЭПа он съездил в Финляндию. Ликвидировал там свою дачу, (скорее дворец) и не заглянул никуда дальше, вернулся, разослав всем своим эмигрировавшим, друзьям и брату очень дружественные и еще более уклончивые записочки. Свою я хранил, потом потерял.
Вот посылаю Вам листик из моей Кристабели (Кольриджа). Это последние стихи поэмы. Про этот кусочек Лозинский очень восхищался переводом, называл шедевром и не изменил, редактору ни строчки. Он вообще очень мало внес поправок в весь мой перевод. Но после него, Гумилев, не знавший к тому же ни бе ни мэ по-английски, прошелся по ней «редакторской корректурой» и наворотил черт знает чего. За редактора платили почти столько же построчно, как за перевод. Скоро Гумилева расстреляли, а я, уезжая заграницу выкрал рукопись и продал ее «Петрополису»[124]. По лени и наплевательству я не удосужился снять гумилевских глупостей и Кристабель появилась в обезображенном виде. Был бы у меня Кольридж в подлиннике, я бы теперь на старости лет исправил бы, «для потомства». А впрочем, наплевать. Так сверьте эту страничку с подлинником на досуге и сообщите Ваше мнение, а страницу верните — я вклею обратно.
Т. к. у меня, по случайности, мой экземпляр, Кристабель с разрисовкой Ремизова, то вспомню о наших с Вами opus'ax в «Опытах» привет Ремизову в общем мы сошлись на этот раз. Интересно, что Вы думаете о моем выпаде в пространство «ручки не поцелую»[125]. Отпишите, отпишите также Ваше мнение о неожиданном «разоблачении» Ульяновым Чаадаева[126]. Тогда уже сообщу, что я об этой статье думаю. Ну обнимаю Вас, мой дорогой нежно, как люблю: напишите мне длинное «литературное» письмо, чтобы меня развлечь. И о себе все подробно, о собаках тоже. И. В. вам сердечно кланяется.
Ваш всегда Георгий Иванов
[без даты; на конверте: 24 февраля 1958 г.]
Дорогой Владимир Феодорович,
Вот Вы и плюнули на меня. Даже о собаках не пишете Я Вас понимаю, писать в пространство, не получая ответа, скучно. Я Вам целую вечность не отвечал, это верно. Но опять-таки, был у нас с Вами все-таки такой уговор. Снисходя к моим слабостям Вы время от времени сами пишите мне. И что-нибудь по существу: ну задаете вопросы, на которые Вам интересно было бы получить ответы. Впрочем, Вы не особенно склонны принимать сведения из первых рук: Струве как «ценного исследователя по материалам» явно предпочитаете, чем живого участника тех дел, которые этот осведомленный из третьих рук тупица научно квалифицирует. Это я так брюзжу, не обращайте внимания: «накипевшая за годы, злость, сводящая с ума»[127]. Вот опять-таки как-никак только что появился новый «Дневник»[128]. Сообщили бы Ваше мнение (не ищу похвал, но ведь есть мнение) можно бы сообщить.
В «Новом Русском Слове» попалась мне обмолвка Корякова[129] о «провинциализме» Нов. Журнала. Я подивился развязности этого недавнего капитана красной армии по части репатриации. С какой такой столичной точки зрения он судит. «Н[овый] Ж[урнал]», как и «Современные Записки» при разных своих недостатках — образцово — столичны с точки зрения и былого российского уровня и тем более с доступной Корякову и ему подобным. Не знаю, как Вы думаете. Он, по-моему, пустозвонный хлыщ, каких, увы, большинство среди Ваших коллег по новой эмиграции. Ульянов в тысячу раз почтенней, я compris его Чаадаева. Мне жаль, я нечаянно обидел Ульянова в свое время, указав ему на чушь его описаний царского быта в «Сириусе»[130]. Очень жалею, т. к. за наше короткое знакомство в Париже он мне очень «органически» понравился и кого-кого, а его я обижать не хотел. Он же принял мои фактически замечания бытового и формального порядка так близко к сердцу, что прекратил писать этого Сириуса. М. б. в конце концов и к лучшему, ибо это было «дохлое место» — как трясина — чем больше топтаться на нем тем более увязнешь.
Только что перечел Ваше Ego Sum in Arcadia с особой для себя целью и скажу, кажется уже говорил или м. б. просто думал — это удивительно хорошо написано перечитывая спустя много времени это еще видней. Прежде всего, прочтя жалеешь, почему так мало. Проследил разные «внутренние пружины» особенно к концу с физическим удовольствием. Мне с первого чтения казалось, что от Ваших друзей идет снобизм, теперь это впечатление снялось как-то само собой. Кое-чему изумляюсь — как могло быть, что Анненского Вы не знали даже по имени. Как же так? А букинисты на Литейном, а Гумилев и Блок с личными пометками. Мне вспомнилось впечатление от лунного затмения: луна на небе, только что блестела, потом половина черная, потом ее совсем нет. Так в глазах людей, преданных как Ваш кружок искусству атмосфера, очевидно, сама собой тускнела — все кругом тускнело — самое явное, переставало ощущаться. Живая Ахматова, Живой Мандельштам ходили около Вас — люди, «клявшиеся именем Анненского» — а Вам имя было неизвестно! И Адриан Пиотровский[131] или Радлова или В. Гиппиус не сказали. Что, кстати, стало с милым Адрианом Пиотровским? Я ему обязан командировкой от Политпросвета в Германию — для составления списка пьес для государственных театров — Rien que ca, Вам известно должно быть, чей Пиотровский сын (незаконный) — Ф. Фр. Зелинского знаменитого эллиниста.
Он, т. е. Пиотровский, был убежденнейший % большевик. НЭП — ненавидел. Был как говорится «кристальная душа» — очень хорошо его знал. Жив ли он или погиб?
Ваша кружковская песня о Мичуан Люри слишком «дюже поэтична», да и длинновата. Не знаю мотива, но мне она слышится заунывно тягучей вроде
Когда буду большая
Отдадут меня замуж
Во деревню большую
Во деревню чужую
Там утром то дождь идет
Там и вечером дождь идет
Мужики там дерутся,
Топорами секутся.
Не верится мне и очарование — не балетное, а человеческое — Улановой[132]. Балетное возможно, верю, но человеческое видел столько фотографий. Хотя и единственная из всех балерин моей эпохи, имевшая чудное человеческое очарование (и скорее относительные балетные свойства) Карсавина[133]. Все остальные, а и видел и в большинстве знал лично «Кшесинские и Гельцеры»[134] технически Карсавину превосходившее, были человечески «никуда». Карсавина на сцене была «Ангел во плоти» последний акт Жизели[135] с ней превосходил все мыслимое по очарованию. Можно было, кстати, сидеть и в первом ряду: ни грима, ни хрипения не было и следов.
Ну вот видите, пишу чепуху как всегда. Это мое горе — я желаю очень написать на старости лет нечто, очень существенное для себя прозой вроде «Атома». Все делаю заметки, даже на улице, даже во сне. Но «содрогаюсь» при мысли сесть за дело, чтоб вышла книжка: голова начинает болеть при одной мысли. М.б. так и не напишу из-за этого страха. Адски нужен мне Бобок Достоевского и представьте никто в целом Париже не может мне достать или переписать на машинке. Вот это так безвоздушное пространство: награда за сорокалетнею эмиграцию. Любимов[136] в Москве (видели воспоминания?) тысячу раз свободнее дышит (книги, люди, да и разные разности жизни) чем Ваш покорный слуга. Бобок).