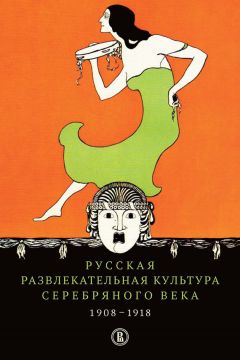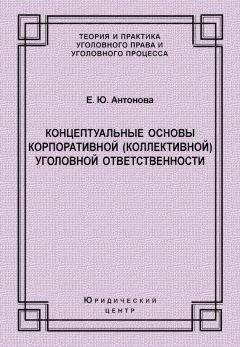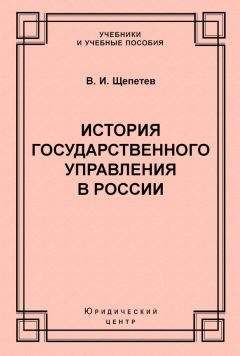Сопровождались стихотворными текстами и исторические картинки; например, рисунок А. Радлова по древней истории – стихами В. Князева[142]:
По Припяти, в густых лесах,
Охотились древляне,
За рыбой ездили в ладьях,
Врагам платили дани.
Их город Искоростень. Тут
Уж больше люди не живут.
Или рисунок В. Лебедева о Рюрике[143]:
Он в Новгороде княжил
Семнадцать лет. С врагом борясь
Богатства и славы нажил;
При нем Аскольд и Дир вдвоем,
Взяв Киев, стали княжить в нем.
Приведены лишь несколько примеров из многочисленных журнальных «райков», которые породили новую форму, которая традиционно считается советским изобретением. Имеются ввиду такие устойчивые жанрово-тематические структуры, как стихотворные обозрения, серии лиро-эппиграмматических миниатюр. Вспомним «Детки в клетке» (1923), «Цирк» (1923), «Азбука в стихах и картинках» (1939) С.Я. Маршака[144]. Напомним общеизвестный факт: первое издание «Деток в клетке» представляло собой стихотворные подписи, сочиненные к изображениям зверей Сесиля Олдина[145]. Такая форма была в достаточном количестве разработана уже поэтами и художниками Серебряного века в детских дореволюционных журналах. И не только в «зоопарковой» и «алфавитной» темах. Для примера приведем начало стихотворения М. Моравской «У антиквария»[146]:
Диковинная лавка, —
Чего там только нет!
На краюшке прилавка
Фарфоровая пара —
Старая престарая —
Танцует менуэт…
Традиция не возникает ниоткуда, спонтанно, «обозрения» уже встречались в русской поэзии, например, «Фонарики» (1841) и другие стихотворные опыты И.П. Мятлева. В этот генетический ряд вписывается и Н.А. Некрасов с его вполне раешным, но мягко дидактическим стихотворением «Накануне Светлого праздника» (1873), адресованным русским детям.
Более того, такая раешная картиночная форма мотивировала и другую сюжетную тему, также в высшей степени популярную впоследствии в советской детской литературе – я имею в виду «бунт вещей». Достаточно вспомнить такой цикл в «Галченке»: сюжетные картинки «Заговор вещей» А. Радакова (см.: Галченок. 1912. № 2. С. 5), где грязнуле мстят кувшин и – особенно жестоко – подтяжки. Здесь, как и в «Мойдодыре» К. Чуковского, мальчик исправляется. Но иногда и название, и концовка представляют собой однозначный «стеб» над устойчивым дидактическими названиями и дидактически-резонерским приемом «нарушение запрета». Или «раек»: «Дети, не дразните неодушевленные предметы» В. Лебедева, где мальчик поливал горячую печку холодной водой. В итоге на подписи к последней картинке, читаем вполне «детско-толстовский» текст: «Затянулась печка Гришей и дым пускает… Только и видели Гришу» (см.: Галченок. 1912. № 6. С. 16). Обыгрывается все – измененная резонерская формула, стилистическая калька детских рассказов Л.Н. Толстого, даже частотные толстовские синтаксические конструкции: «Он в реку, – только его и видели» («Ермак»)[147]. Но здесь самое главное следующее: жесткая ирония над резонерством рассчитана на детского читателя, привычного адресата такого резонерства. Модель возникла и стала весьма частотной именно в детских журналах Серебряного века. Очевидна и ироничная адресация такой формы «дидактическим» экспертным сообществам.
«Развлекательное» сюжетное и поэтическое экспериментаторство не оставляло в покое авторов детских журналов начала XX века. По сути дела, происходило разыгрывание не разыгрываемого, что приводило как к поэтическому развлечению авторов, так и к развлечению читателя. Аналогичная игра затевалась с инфернальными темами (и соответствующими героями), весьма актуальными для Серебряного века. Детская литература вписывалась в этот мейнстрим. В журнале «Тропинка» появлялся колдун, живший в пещере за кровавым мертвым лесом (А. Кундурушкин), рыжая косматая кикимора (О. Беляевская); в «Смерти лешего» А. Радаков в инфернальном ключе живописует «царство Владыки фабрик»: «Бешено вертятся колеса, змеями тянутся ремни, ухают молоты. Тр-а-ах…тах…тах!.. Точно ноги гигантских пауков, рычагами машин, хватают, гнут, жмут»[148].
Но интересна сама литературная техника «разыгрывания нечисти». Одни опыты представляли собой следование фольклорной схеме былички о потерявшихся (обозначение нечисти, ее действие, пленение нечистью, молитва о спасителе, спасение), но в абсолютно детско-игровых сюжетных моделях и стилистике с явной издевкой над педагогическими клише (обиды родителей, порча игрушек и проч.). В достаточно объемной поэме «Глумушка» А. Рославлева инфернальная Глумушка «нашептывает» ребятам вполне профанные детские затеи[149]:
Нашептывает ребятам затеи,
Одна другой веселее:
Привязать кошку к столу
Всунуть в веник иглу,
Чтобы бабка наколола руку.
В кисет дедушкин положить луку,
Во щи пустить таракана.
Вымазать лавку сметаной,
Сядет, кто и выбелит зад, —
Так учит Глумушка ребят.
Украденный Глумушкой Гришка ищет спасителей, но, оказывается, что он всех обижал[150]:
И отца, и мать,
И дядек, и нянек, и повара Прошку,
И собак, и кошку, —
И кур, и гусей,
Воробьев, голубей —
Всех обижал, а игрушки?
У Петрушки Сковырнут нос.
Дед мороз
Без сосулек, а заяц без лапки,
От козы в сарафане остались лишь тряпки…
Спасителем оказывается «необиженный» кубарь, поскольку его и обидеть невозможно: он функционально предназначен для битья. Мы видим не прием устрашения, а своего рода «хулиганизирование» нечисти. Вертящийся кубарь как образ спасения – блестящая находка автора, причем вполне актуальная для Серебряного века: вспомним кубарь-фуэте или книгу А. Аверченко «Кубарем по заграницам». В аналогичной стилистике А. Рославлев публикует поэму «Сказка про кота и Вавилу»[151].
Еще один прием связан с профанацией нечисти. В этой дискурсивной тактике демонстрируются интереснейшие логические и алогические ходы: дети черта (кроме одного), подражают обыкновенным детям, за что черт, подражая людям, собирается выпороть чертят, скрасив это иронией над квасным патриотизмом[152]:
Лишь трубку кончу, шалунам
Большую порку я задам, —
Чтоб навсегда они забыли
О жестяном автомобиле!
Чтоб их рассеялись мечты!
Чтоб помнить им была охота, —
Свои рога, свои хвосты,
Свое прекрасное болото!
Следующий прием можно назвать «лиризацией» нечисти. В стихотворной картинке С. Городецкого с рисунком В. Белкина «Лесная ведьма», обнаружившая потерявшуюся маленькую девочку ведьма, провожает ее домой, поскольку сама когда-то потеряла дочку, очень на нее похожую, искала ее сотню лет и поэтому обрела статус ведьмы. Последние два стиха лирически обосновывают метаморфозы персонажа безутешностью и безуспешностью материнских поисков[153]:
В лес заходит редко,
Схожая такая.
В стихотворении О. Беляевской лирически преобразуется кикимора, которая имеет понятие о лекарственных травах, пестует зайчат и спасает птенцов[154] (см.: Тропинка. 1906. № 12. С. 551-553). На обложке журнала «Галченок» (1911. № 7) – мальчик, поехавший удить рыбу, слышит «экологические» упреки от водяного и кикиморы («рыбу съели», «все повырубили рощи)[155]. М. Пожарова фактически дразнит нечисть[156]:
Был страшнее всех в лесу
Тощий колдунишка:
Гриб зеленый на носу,
А под носом – шишка!
(Ср.: гоголевское «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?»)
Вариации с нечистью продолжаются в алфавитных практиках, например с буквой «я»[157]:
Подпираяся клюкой,
В лес Яга идет домой.
В излюбленном приеме «издевки» над дидактикой обыгрывается сюжет нарушения запрета и исправления героя, который будет весьма актуальным и в советской детской литературе. В «Сказочке», где: «Говорила детям мама / Не ходите на чердак», – дети обнаруживают кажущуюся или реальную нечисть, после чего: «Стал сынком послушным мамы / Необузданный Сергей»[158].
Но самым интересным мотивом представляется появление «нечистого» героя среди детей: от бесенка Дымка на детской елке в стихотворении Поликсены Соловьевой «Как бесенок попал на елку»[159]:
И заснул, сжимая лапкой
Золоченый свой орех.
Раздвоенный копытца.
Хвостик серенький торчит.
На снегу так сладко спится,
Елка, свечи, праздник снится.
Сердце радостью горит.
Светлый сон к нему слетает.
– Не забуду никогда! —
В этом сне он повторяет,
И над ним из тьмы сияет.
Вифлеемская звезда.
И так до знаменитой семичастной поэмы «Чертяка в гимназии» С. Городецкого. Появление лирического «нечистого» героя уже само по себе оригинально, интересно и задает новые обертоны читательского развлечения. Но меня интересуют не столько сюжетные вариации, сколько поэтическая форма, которая несомненно усиливает комический эффект и является школой комической поэтики. Приведем несколько отрывков. Начнем с «Чертяки в гимназии» С. Городецкого[160]: