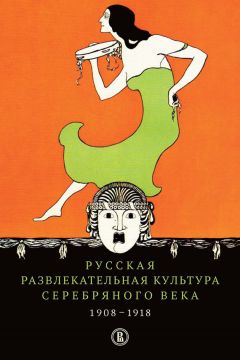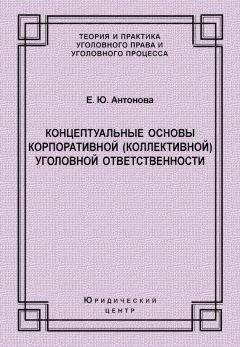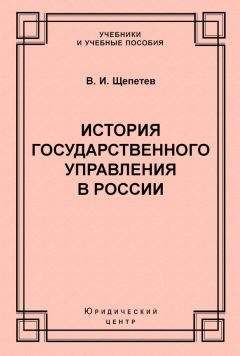И так до знаменитой семичастной поэмы «Чертяка в гимназии» С. Городецкого. Появление лирического «нечистого» героя уже само по себе оригинально, интересно и задает новые обертоны читательского развлечения. Но меня интересуют не столько сюжетные вариации, сколько поэтическая форма, которая несомненно усиливает комический эффект и является школой комической поэтики. Приведем несколько отрывков. Начнем с «Чертяки в гимназии» С. Городецкого[160]:
Время к осени катилось,
Про метели лесу снилось,
Ветер рыскал в огородах
Шили ранцы в городах…
Как видим, уже в начале «Чертяки…» отчетливо просматриваются пушкинские реминисценции, которых в тексте множество. Аналогично и у П. Потёмкина и В. Князева в «Бобе Сквознякове в деревне»[161]:
Начнем, как водится, сначала…
Итак, весна уже настала,
Уж прилетели журавли
С болот египетской земли.
Если продолжить цитирование, то увидим обратную смысловую реминисценцию, идущую от хрестоматийного стихотворения, приписываемого П.А. Плещееву, но, скорее всего, принадлежащего А.Г. Баранову[162]:
Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты…
Как точно отметил И. Лощилов, «Боба» «написан четырехстопным ямбом – самым распространенным размером русской силлаботоники, размером пушкинского романа в стихах <…>. В первую очередь в поэме слышны вариации на тему строфы XL из главы четвертой (“Уж небо осенью дышало.. .”), которая с давних пор живет самостоятельной жизнью в хрестоматиях для младшей школы»[163].
Третий пример – из стихотворения М. Моравской[164]:
Опустели в кухне щелки —
Что такое хлеб и сыр?
Тараканчики у елки Правят пир!
Пляшут с пеньем, пляшут с писком.
Сердце, душу веселя:
«Слава яблочным огрызкам,
Слава крошкам миндаля!»
Сколько всякой бакалеи:
Мед, изюминки, кутья!
«Ешьте, братцы, поскорее!
Мне кусок! И я! И я!
Нет на празднике милее
Тараканьего житья!
В этом тексте очевидны реминисценции из Пушкина («Бесы», «Зимний вечер»), Некрасова («Дедушка Яков»); возможно, есть аллюзия на песню из оперы Ш. Гуно «Фауст» (акт I, сцена 3). Почти тот же авторский набор реминисценций, что и в «Мухе-Цокотухе» К.И. Чуковского.
Разумеется, у Моравской присутствует двойная кодировка: на текст реагирует и взрослый, и юный читатель, но не так, как в той же «Мухе-Цокотухе» – дети видят одно, взрослые другое. Это не «взрослый текст в детской литературе».
Как мне кажется, авторы начала XX века пробуют работать в стилистике одного из любимых жанров школьного фольклора – переделки хрестоматийных текстов. Цитируемые «Бесы», «Зимний вечер», сказки Пушкина, «Евгений Онегин» («Уж небо осенью дышало…») и, конечно, «Осень наступила…» – популярные хрестоматийные тексты. Юный читатель легко обнаруживает второй план такой поэзии – хрестоматийный текст (особенно это видно у С. Городецкого, П. Потёмкина, М. Моравской), а: «наличие этого “второго плана” является необходимым условием для возникновения всякой пародийности»[165].
Мы не можем говорить, что такая поэзия «паразитирует» на хрестоматийном оригинале, но однозначно ощущаем его «снижение», игру с первоисточником. Здесь следует процитировать М.М. Бахтина: «Средневековая пародия ведет совершенно необузданную веселую игру со всем наиболее священным и важным с точки зрения официальной идеологии»[166]. И, справедливо замечает М.Л. Лурье, «подобно тому как излюбленными объектами древнегреческой смеховой поэзии были гимны и героические эпопеи, а средневековой (в том числе и русской) – наиболее важные молитвы (“Отче наш”, “Символ веры” и т.п.), литургические тексты, проповеди и даже Евангелие, жертвами школьной переделки становятся стихотворения поэтов-классиков»[167].
Такие стихи отчасти обретают статус своего рода parodia sacra[168]: частотность реминисценций, узнаваемость «первотекста» «снижает» и дискредитирует хрестоматийные тексты.
Но главное в таких сочинениях другое: «набитый» цитатами и реминисценциями текст начинает представлять собой не столько авторское сочинение, сколько некий поэтический миф, что также актуально для поэтики Серебряного века[169].
Одним из популярных «развлекательных» приемов были так называемые псевдомнемонические «забавы», которые также снижали образцы дидактических практик. Например: «Г. Подлежащее был отец семейства. Он был очень важный господин, потому что он был именно то, о чем говорится в предложении. Он не был болтлив и отвечал только на вопросы “кто?” и “что?” Зато его жена, госпожа Сказуемое, очень любила болтать, и изрядно ему этим надоела. Она все время сообщала г. Подлежащему то, что о нем говорится. У них были детки»[170]. Далее повествуется об их детях – дочке (определение) и сыне (дополнение), а также о пятерых племянниках (обстоятельства).
Воспринимать этот текст как мнемоническую прозу, как приемы, облегчающие запоминание, вряд ли возможно. Эта цель вторична, если она вообще присутствует. В основе текста – разыгрываемое неразыгрываемое, скрытая (если не открытая) ирония над мнемоническими приемами. Ирония, над многим – над стереотипным рассказом о семье, над тривиальными типажами, над мнемонической дидактикой. Но одновременно этот текст очень дидактичен, вернее эпистемологичен. Он становится школой поэтики – поэтики иронии, восприятия неожиданного вместо ожидаемого. Он дает ключи иронического восприятия текста. Происходит то, что свойственно эстетике Серебряного века, – превращение текста в метатекст.
Следующая форма развлечения, которая также связана со школой поэтики, это анекдот или анекдотичная ситуация. Анекдот может иметь форму не только забавного рассказа в картинках или без оных, не только остроумного ответа, но и своеобразной дидактической притчи, например, на обложке «Галчёнка» изображена мудрая слониха, которая объясняет слонятам, почему обезьяна валяется пьяная, с бутылкой: «Слониха – детям: “Вот видите, до чего доходит животное, когда оно начинает подражать человеку”» (см.: Галченок. 1911. №7. С. 16).
Анекдот достаточно часто разыгрывается с «мюнхгаузеновским» подтекстом. Например, путешественник спасается от льва на пальме, льет рычащему льву в пасть ром, а потом при помощи оптического стекла его, ром, воспламеняет, и лев взрывается (см.: Галченок. 1912. № 28. С. 5). Некоторые анекдоты имеют лафонтеновский оттенок. В «комиксе» В. Лебедева «Бык и яблоки» (см.: Там же. № 4. С. 4) русский мальчик-воришка, не зная как достать с дерева яблоки, будоражит быка своей красной рубахой, бык бьется об дерево, на которое взгромоздился мальчик, яблоки падают – цель достигнута.
Анекдот может представлять собой неожиданное происшествие в картинках .
Целый час уженьем занят
Ли-пхи-чхи, китаец-франт,
Только рыбу больше манит
На косе китайца бант… [171]
В итоге, огромную рыбу на косу ловит китаец с «чихательным» именем.
Наиболее популярными оказываются анекдоты о дураках и (или) дурочках с приемом «буквально понятая метафора». На картинке в «Галченке» – вместе с бельем на веревке висит мальчик, а на вопрос: «Где же Петя?», – отец отвечает: «Ах. Я его только что выколотил. Он висит во дворе!» (см.: Галченок. 1913. № 26. С. 1). Или отец ставит в пример сыну спокойную собаку Азорку, а в итоге сын валяется в песке и гоняется за кошками и курицами[172]. В журнале «Тропинка» голодная пичуга видит стрекозу, но по приближении это оказывается аэроплан[173]:
Обидная ошибка:
Летит… аэроплан.
В заключение обзора об анекдотах, естественно, следует сказать о популярной в детских журналах иронии над институтками. Катя Кокеткина, оказавшись в зверинце, не заметила, как три слона, подражая ей, хоботами сплели такую же косу. Обнаружив это, девочка отметила: «Ах, как хорошо заплетена коса у слонов. Их похвалила бы даже наша самая строгая классная дама»[174].
Другая развлекательная форма – смех над сверстниками, совершающими нелепые («детские») поступки или дающими смешной ответ. Воспринимающий такой текст и картины смеется над этим, но сам утверждается в норме: «Я бы так точно не сделал». Герои таких картинок устраивают дома петергофский фонтан, заливая при этом квартиру; ловят рыбу из аквариума, играя в деревню; портят подушки, имитируя снег над южным полюсом. Или гимназист на фразу трамвайного кондуктора: «Нет местов», – замечает: «Бесстыдник, он не знает падежов!» (см.: Галченок. 1913. № 33. С. 1).
В детских журналах начала XX века появляется особый тип героя-двоечника. Его возвеличивают, наделяют лукавым умом, склонным к иронии. В одном из рассказов двоечник затевает спор с отцом о том, что угадает будущее наказание за двойку; в случае неугадывания – порка, а в случае угадывания – не пускают в гости. Мальчик, получивший двойку, предлагает наказание в виде порки. Отец не пускает его в гости[175]: