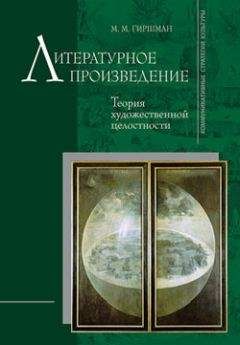В отношениях глухих и звонких после относительного равенства в первых трех строках (6—7, 6—6, 8—9) следует контраст в четвертом стихе (То глухо жалобный, то шумно: 4—9). Интересен здесь внутренний контраст прямого значения и звучания: «глухо» и «шумно» сочетается с двукратным преобладанием звонких. Следующий, еще более сильный контраст – в том же пике ритмической напряженности в конце восьмистишия, особенно в строке: «… И роешь, и взрываешь в нем» с пятикратным преобладанием звонких (2—10).
Второе восьмистишие в отличие от первого начинается контрастом: в первой строке явно преобладают глухие (9—5), а во второй – почти в три раза звонкие (4—11), и именно этими минимальными в данном случае глухими согласными выделяется впервые появляющийся здесь центральный «герой» стихотворения: «хаос». Затем преобладание звонких продолжается и даже нарастает вплоть до последней строки; она явственно выделена на общем фоне равенством глухих и звонких (5—5), и это позволяет еще раз говорить о совмещении противоположностей в финале.
Итак, общая звуковая тенденция – нарастание звонких согласных и в еще большей степени передних гласных (особенно И): отношение передние-непередние по первой строфе 28—72 %, по второй – 41—59 %, в целом – 35—65 %; отношение глухие-звонкие по первой строфе 40—60 %, по второй – 37—63 %, в целом – 38—62 %. Эта общая направленность звучания конкретизируется в стройной организации, в движении звуковых сопоставлений, противопоставлений и в нарастающем совмещении нарастающих контрастов. Если попытаться определить своего рода звуко-смысловые центры этого движения, «собирающие» все звуковые и композиционные отношения, то более всего выделяются в такой интегрирующей роли «хаос» и «мир», максимально противостоящие друг другу: в первом слове только глухие и непередние, во втором – только звонкие и единственная передняя гласная И.
Но, как я уже говорил в первой части работы, несколько предваряя развернутый здесь анализ, в строке: «Про древний хаос, про родимый» вместе с первым появлением и провозглашением хаоса проявляется и его звуковая и смысловая противоположность: мир – все звуки этого слова заключены в пределах строки. И вот это, на мой взгляд, самое значимое и своеобразное в звуковой организации стихотворения: перед нами выстраивается и развертывается уникально тютчевское единое или едино-раздельное слово хаос-мир ( подобное таким, как «и блаженство – и безнадежность», «просиял бы – и погас», «убитый, но живой» и др.), в котором содержатся, из которого развиваются и в котором совмещаются противостояния и контрасты. И тютчевское совмещение противоположностей в строгой и стройной ритмической организации стихотворного текста является в то же время возвращением к невозвратному и неповторимому «единому слову» и прояснением его.
«Собираются» в этом едином слове: хаос – мир – и выявленные стиховедческим анализом основные формообразующие характеристики композиции стихотворения, ее единство – двойственность – троичность: первоначальное ритмическое единство, – «перводеление» 2 на две строфы, две разновидности ритмического движения Я 4, две звуковых доминанты, два пика контрастности в шестых строках обеих строф и др., – совмещение противоположностей на границе их нераздельности и неслиянности.
Финальным прояснением хаоса-мира становятся и последние строки: «О, бурь заснувших не буди – Под ними хаос шевелится», где не только опять-таки «звучат» оба эти слова (одно – явно, а другое – «растворенно» в общем движении), но выстраивается и звуковой, и эмблематически-"наглядный" образ предельного совмещения предельных противопо-ложностей в глубинах бытия. Это одновременно и образ, и имя, впервые называющее те глубины, которые со страшной ясностью «обнажаются», открываются обращенному к ним человеческому сознанию, так что их можно видеть, слышать, чувствовать, созерцать, понимать, называя их впервые созданным, «выстроенным» для этого словом – именем – стихотворением.
То состояние сознания, которое осуществляется поэтическим целым стихотворения «О чем ты воешь, ветр ночной» и о котором я только что говорил, можно определить словосочетанием из тютчевского письма: «бессильное ясновидение» 3 . О ясновидении, комментируя именно письма Тютчева в контексте всего его творчества, давно и очень хорошо писал Б. М. Эйхенбаум: «Это – истинно пророческое состояние: не просто предвидеть будущее, но совсем на мгновение выйти из пределов времени и потому видеть его как бы со стороны» 4 .
Сомнение здесь вызывает только определение тютчевского состояния как «пророческого». Конечно, пророк слышит Божественный голос глубинной, подлинной истины в известном смысле так же, как истина открывается не столько человеком, сколько человеку в мире тютчевского стихотворения. Но вместе с открывающейся истиной пророк чувствует и устремленный к немедленному действию призыв «глаголом жги сердца людей!», и несомненную внутреннюю силу, позволяющую провозглашать и осуществлять истину. Тютчев же в письме называет свое ясновидение бессильным, а в стихотворении, о котором идет речь, песни, открывающие глубину «прародимого хаоса», оказываются «страшными», и призыв направлен не от голоса истины к человеку, а от человека, заклинающего этот голос: «не пой…», "не буди… "
Финальное обращение-отрицание: "не буди… " позволяет вспомнить еще одно тютчевское словосочетание, которое может быть адекватным именем, называющим то завершение, в котором проясняется состояние тютчевского человека и тютчевского мира: «всезрящий сон» (можно бы добавить и все-слышащий). Сон причастен к яви, содержит в себе разнообразные очевидные и таинственные нити связи, общения с ней, но исключает участие, действие, действенную включенность в созерцаемое. В ясновидении глубин «беспредельного», «прародимого хаоса» открывается совмещение всего и всех противоположностей, причастность человека к этой бездне, обнажающейся, открывающейся его сознанию, – и невозможность гармонизировать эти противоречия, разрешить их каким бы то ни было человеческим действием. А «слиться с беспредельным» одновременно означает уничтожение «смертной груди» да и всего собственно человеческого.
В самом лучшем случае человек может быть только зрителем «высоких» зрелищ и «собеседником на пире», находящимся в созерцательно-говорящем общении: видеть, слышать, созерцать, понимать все, всю беспредельность и глубину «родимого хаоса» «разумным гением». И даже его глубинный союз «кровного родства», связь от века с «творящей силой естества» одновременно заставляют вспомнить, что «союз души с душой родной» в тютчевском мире – это «их съединенье, сочетанье, и роковое их слиянье, и поединок роковой». В этих со-противопоставлениях особенно показательно, что в стихотворении «Колумб» Тютчев заменил определение «живою силой естества» на «творящей», прояснив тем самым фундаментальное противостояние человеческого «разумного гения» и «творящей силы» беспредельного «хаоса-мира».
Человеческая душа все содержит, совмещает в себе, в ней вместе живут день и ночь, заснувшая буря и проснувшийся хаос неистовых звуков. «Разумный гений», созерцающее и понимающее человеческое Я способны к ясновидению, но это ясновидение оказывается «бессильным» оно не знает, что со всем этим знанием и пониманием делать. «Все во мне и я во всем» – это «час тоски невыразимой»; первый миг «божески всемирной жизни» – это «последний катаклизм», по крайней мере уничтожение всего собственно человеческого. «Бессильное ясновидение» делает человеческое творчество не только сомнительным или бессмысленным, но и в глубинных своих основаниях – невозможным.
Но здесь мы сталкиваемся с новым витком развертывания бытия-общения на границе несовместимых и тем не менее совмещающихся, а точнее, обращающихся друг к другу миров. Перед лицом обнажающегося хаоса, совмещающего творящую силу со всеобщим разрушением и уничтожением, невозможным оказывается любое человеческое творчество, в том числе и поэтическое. Но стихотворение «О чем ты воешь, ветр ночной» делает это поэтическое творчество несомненным. Тютчевскому скептицизму по отношению к любому человеческому действию, результат которого всегда не соответствует исходным человеческим стремлениям, внутренне противостоит реальный поступок создания поэтических произведений и осуществляемая Тютчевым возможность поэтического совершенства – совершенного воплощения, как писал Вл. Соловьев, «гармонической мысли» 5 . Толстой отметил стихотворение «О чем ты воешь, ветр ночной» аббревиатурой Т. Г. К. 6 – Тютчев. Глубина. Красота. Невозможное, но несомненное поэтическое творчество осуществляет и проясняет красоту являющейся глубины. И так же, как глубина первозданного, прародимого хаоса, красота объединяет в себе всё и лишь потом «разделяется» на прекрасное-безобразное, возвышенное-низменное, трагическое-комическое.