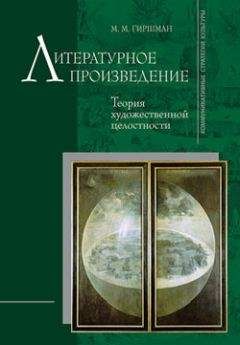Единство перехода и совмещения позволяет, на мой взгляд, увидеть и некоторые моменты эволюции лирики Тютчева: предельно все в себе содержащий и совмещающий пограничный миг в позднем творчестве в большей мере наполняется переходностью, а бытие-между обретает свое наполнение и свои имена, например, между днем и ночью «день вечереет»:
День вечереет, ночь близка,
Длинней с горы ложится тень,
На небе гаснут облака …
Уж поздно. Вечереет день.
Кольцевой повтор с зеркальным отражением, перестановкой и ритмической выделенностью разнотипных вариаций Я 4 («день вечереет» —"вечереет день") наиболее очевидно формирует промежуток двунаправленного движения: день уходит и сохраняется. В этом промежутке появляется рифмующаяся с «днем» благодатная «тень» «волшебного призрака», звучат призывы и вопросы («Лишь ты, волшебный призрак мой, / Лишь ты не покидай меня!.. Кто ты? Откуда? Как решить, / Небесный ты или земной?»). Наконец, промежуток между днем и ночью, между небом и землей обретает финальную конкретизацию как некая возможность существования:
Воздушный житель, может быть, —
Но с страстной женскою душой.
Такое возможное наполнение переходности мотивирует состояние, противоположное принципиально иному финалу стихотворения «День и ночь», где предельно совмещаются противоположности в точке прояснения истины, «обнажающей» бездну («Вот отчего нам ночь страшна» – «Но мне не страшен мрак ночной»).
Одна из характерных тенденций поэтического словообразования в лирике Тютчева, особенно в лирике ранней, – максимальная концентрация звукосмысловых связей в финалах строф и произведения в целом. Показательно в этом плане стихотворение «Как над горячею золой…»:
Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огнь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает,
Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом!..
О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился на воле,
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы – и погас.
Первая ступень такой концентрации – финал второй строфы: «…В одно-образье нестерпимом». Строка эта выделена ритмическим и звуковым контрастом с предшествующей, и в то же время она вбирает в себя звуковые противоположности, так что «однообразью нестерпимому» внутренне противостоит звуковое неоднообразие и даже противостояние этих двух слов по всем основным звуковым отношениям: передних и непередних гласных, звонких и глухих, мягких и твердых согласных. Звуковое и особенно ак-центно-ритмическое их противостояние нарастает в финальной строфе, где двустишия представляют разные типы ритмического движения четырехстопного ямба: сначала с максимальной выделенностью акцентной силы зачина, первого икта, а затем – второго, в середине строки, с нарастающим ее внутренним расчленением на полустишия. Ритмическая граница здесь тоже «деля, съединяет», а разделение сочетается с вмещением максимума связей в минимум стихового пространства и времени, слова и звука. И своего рода предел явленности этих отношений в становлении тютчевского слова: ". ..Я просиял бы – и погас". Ритмическое, звуковое и смысловое единство финального стиха совмещает и вбирает в себя противоположности: и сияние, и огонь, и гаснущую жизнь, и уничтожаемые слова и строки. А «огнь», пожирающий слова и строки, в них же и оживает, он снова звучит в заключительной строке и даже в финальном слове с вроде бы прямо противоположным прямым значением: «погас». Но слово это собирает в себе, в одном финальном мгновении, и огонь, и свиток, и всю «мою жизнь», переходящую в стихотворение. Своего рода обратное движение, развертывание того, что у Тютчева собрано в этом едином миге и едином слове, можно увидеть в замечательных стихах А. Фета:
Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.
У Тютчева финальное слово, максимально совмещающее в себе смыслы, которые находятся в безысходном разладе друг с другом, иногда оказывается своего рода рифмой рифм, как, например, в стихотворении «Вечер мглистый и ненастный»:
Вечер мглистый и ненастный…
Чу, не жаворонка ль глас?..
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?..
Гибкий, резвый, звучно-ясный,
В этот мертвый, поздний час,
Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!..
Финальное «потряс» не только рифмуется с «час» и «глас», но содержит в себе и отзвуки радикально противостоящих друг другу по прямому значению слов "прекр ас ный" и "уж ас ный", "нен ас тный" и "звучно -яс ный". Такие звуковые союзы не отменяют смысловых разладов, но осложняют их сближением и совмещением противоположностей в одном слове, так что «собирающийся» смысл, звучащий в «последнем» слове «потряс», оказывается прежде всего пограничным: он на границе между «прекрасным» и «ужасным», «гласом жаворонка» и «мертвым часом». Потрясение является, как жгучее страданье в другом стихотворении Тютчева, не мертвенностью, а жизнью – жизнью человеческого сознания; оно внутренне более всего противостоит безумию, на границе с которым находится, осмысляя и именуя его.
Во многом аналогичные, но более сложные по своей разнонаправлен-ности ритмические, рифмические, звуковые связи формируют конкретику звучащего смысла финального имени «последней любви» в более позднем тютчевском стихотворении:
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.
Здесь значимы и ритмико-синтаксическое подобие полустиший, и их явное ритмическое разделение, осложняющее традиционную структуру Я 4. Еще более выразителен звуковой облик финальной строки: почти полная звуковая общность вроде бы «однородных» членов: и блаженство, и безнадежность, – и тем более остро воспринимаемое в этом «почти» отсутствие в финальном слове только двух звуков из слова «блаженство»: "л" и "в" – опорных в заглавном герое и последней рифме стихотворения – слове «любовь». С одной стороны, это, конечно же, мощное минус-присутствие соответствующих смысловых связей на границе, которая «деля, съединяет» блаженство и безнадежность, нежность и «скудеющую кровь». С другой стороны, каждое из этих пограничных состояний обретает внутреннее пространство, и финальное «безнадежность» становится здесь не всеобъемлющим, но завершающим проявлением звучащего смысла: не риторики, а трагической реальности, адекватно именуемой.
Тютчевское поэтическое словообразование оказывается, таким образом, процессом и результатом встречи мира и человека, которому открывается трагическая бездна истины, который страшится этой бездны и в то же время все это видит и понимает, осознает и эту бездну, и этот страх и при этом может все это написать. Причем написать совершенно, достигая стиля как высшей ступени сугубо человеческого, органично ограниченного творчества – стихотворения. философском квиетизме (поиске спокойствия духа в боге), если бы не мешал этому свет его изначальной индивидуальности, возникающий то тут, то там"8. Изначальная индивидуальность неотделима от бытийного целого и неуничтожима в нем, и сколь трагически проблематично ее действенное участие в бытии, столь же несомненна ее созерцающая причастность к той полноте, имя которой: «…все во мне и я во всем».
Возвращаясь в заключение к взаимосвязи стиля и поэтического словообразования, можно выделить три основных фактора, которыми определяется природа тютчевского личностно-стилевого слова, об образовании которого я говорил. Во-первых, это слово – имя мира как своеобразного героя философской лирики, – имя, проявляющее суть этого мира в зримых и осязаемых, слышимых и ощущаемых образах; во-вторых, это слово —творчество автора, его видение, сознание и создание (или точнее: воссоздание) мира в слове, объединяющем и сохраняющем авторство и человечность; наконец, это слово – общение, обращение к адресату, к тому, кто в восприятии этого слова и открывающейся в нем, в его облике, глубины может рождаться как мыслящий человек, как личность. Такая реализация единства, разделения и общения автора – мира – читателя или автора —героя – читателя в поэтическом слове – это одна из самых существенных характеристик стиля литературного произведения.
1. Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де. Характеры. М., 1974. С. 117.
2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1967. Т. 3. С. 86.
3. Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М., 1991. С. 53.