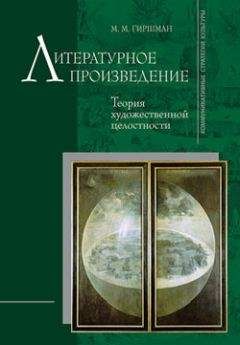Несомненно, в «Студенте», как и в любом художественном произведении, есть риторика построения изображающего события рассказа и артикулированная именно в этом чеховском рассказе «риторика прозрения». Но столь же несомненно, с точки зрения иной системы координат, что это не может быть исчерпывающей характеристикой формы произведения искусства слова. Эту иную систему координат представляют, например, слова Г. Гердера о том, что «Шекспирова драма во всех ее частностях, во всех особенностях сценической структуры, характеристики, языка и ритма подчинена единому закону, и этот единственный закон ее есть именно закон Шекспирова мира». Приведя эти слова Г. Гердера, Вяч. Ив. Иванов в своей статье «Мысли о поэзии» сформулировал следующее обобщение: «Очевидно стало, что форма в поэзии не то, что форма в риторике, не „украшение речи“, но сама жизнь и душа произведения» 3 .
Жизнь и душа произведения – это и есть поэтическая, эстетическая реальность. Она являет и обращает к каждому воспринимающему все происходящее в рассказе как несомненное, в ней и только в ней (эстетической реальности) существующее. Несомненным становится и то, что герою только «казалось»: несомненно и то, что казалось, и то, что казалось, и в целом эстетическая кажимость – явление сущности.
Такое явление мира в слове невозможно без творчества в языке, т.е. опять-таки без активной взаимообращенности дискурса, в самом деле неподконтрольного никакому отдельно взятому субъекту, и автора, тоже полностью неподконтрольного дискурсу, а творчески обращающего «языковую игру» в словесно-эстетическую реальность. Только это «языковая игра» всерьез, т. к. становящаяся эстетической реальностью «возможность непосредственного душевного движения навстречу другой душе и чужой правде, – по словам Н. Д. Тамарченко, – оборачивается причастностью к той мировой силе, которая противостоит смерти» 4 .
Сила эта – не потусторонняя языку, позволяющему «предпочесть речь войне» 5 , и она хотя и не определяется односторонне и исключительно «системой языка», но, безусловно, актуализирует необходимую встречу личности и языка перед лицом альтернативы, сформулированной О. Розенштоком-Хюсси: «Мы найдем либо общий язык, либо общую погибель» 6 . Поиски союза эстетики и риторики на путях преодоления и эстетических утопий, и абсолютизации риторических эффектов таят в себе, на мой взгляд, неутопическую надежду на возможности прояснения сущности и существования искусства слова как общего языка человечества 7 .
1. Щербенок А. Цепь времен и риторика прозрения // Парадигмы. Сб. работ молодых ученых. Тверь, 2000. Далее ссылки на эту статью приводятся в тексте.
2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 27.
3. Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 229.
4. Тамарченко Н. Д. Усилие воскресения // Литературное произведение: слово и бытие. Донецк, 1997. С. 51.
5. Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб, 1998. С. 153.
6. Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. С. 13.
7. См. об этом также: Гиршман М. М. Язык поэзии – форма поэтического произведения – поэтический смысл // Проблема художественного языка. Самара, 1996.
Одно из самых глубоких противоречий, которое чувствует, по-моему, каждый, обращаясь к изучению художественного произведения, – это стремление к объективности и невозможность не быть субъективным при переходе от анализа текста к интерпретации его смысла. Литературоведческое познание предполагает не исключение, а включение в свои результаты содержания личности исследователя, преподавателя литературы. И тем острее встает вопрос о мере субъективности, о границах между необходимым самоосуществлением и подменой содержания художественных произведений особенностями их субъективного восприятия. В поисках разрешения этого противоречия очень многое дает уже приводившееся выше одно из рассуждений Л. Н. Толстого из письма Н. Н. Страхову: "…Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее" 1 (выделено мной. – М. Г.). Противопоставление содержаний познающего субъекта и познаваемого объекта справедливо лишь как относительное, а не абсолютное. В их глубинах существуют всеоживляющая связь и общность этих содержаний. И являясь необходимой и единственно возможной почвой существования богатства человеческих содержаний, – не только как бесконечного множества, но и как в последней глубине своей неделимого единства, – эта же общность может стать основой их исследования, основой объективности гуманитарного знания.
Вот почему, кстати сказать, объективность литературоведческого анализа неожиданно оказывается связанной, казалось, бы, с самым «ненаучным» человеческим проявлением – любовью, о которой напоминает даже имя филологической науки. Ведь именно любовь поднимает человека над ограниченностью обособленно-личного существования, непосредственно и непринужденно приобщает его к глубинным истокам человеческого бытия, дает возможность почувствовать, как писал А. А. Ухтомский, «что люди могут быть и некогда будут реально одно … мы все одно, как ни застилаемся друг от друга условными скорлупами, которые с годами становятся застарелыми и прочными» 2 . Вспомним так поразившее героя повести А. Битова «Сад» рассуждение из «старой книги» о том, «откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не от него, то откуда же? .. То огромное, что есть любовь, не оставляет ни точки в твоем крохотном пространстве и даже разрывает тебя и гораздо превышает тебя. Ты становишься таким большим, каким никогда бы не мог без этого стать, а в том, чем ты был без любви, ты становишься еще мельче. Так как же из тебя могло возникнуть большое?» 3 . Конечно, любовь не замена объективного гуманитарного знания, но лишь необходимая предпосылка для его существования. Она позволяет – вспомним еще раз письма А. А. Ухтомского – и осознать иллюзорность попыток «взглянуть на мир совсем помимо себя», и в то же время "быть готовым в каждый данный момент предпочесть новооткрывающися законы мира и самобытные черты и интересы другого «лица» всяким своим интересам и теориям касательно них", – и это вовсе не самоотречение, а, наоборот, подлинно человеческое самоутверждение: «… только переключивши себя и свою деятельность на других, человек впервые находит самого себя как лицо» 4 .
Таким образом, в литературоведческом анализе, как и в гуманитарных науках вообще, для получения объективного знания субъекту познания необходимо утвердиться на позиции, общей ему и объекту его познания, и только такая глубинная общность при ее обнаружении и развитии дает возможность превратить субъективное содержание познающей личности в форму объективного знания о человеке и человеческом мире, о процессах, формах и результатах человеческой деятельности и человеческого существования. Соответственно критерием объективности является здесь не столько точность однозначного определения, сколько "глубина проникновения" 5 (М. М. Бахтин) в родственный познающему субъекту и вместе с тем иной по отношению к нему мир, глубина постижения – не по отдельности, а вместе, в точках их пересечения – всеобщего смысла и индивидуального своеобразия различных явлений человеческой жизни, человеческой культуры.
Конечно, при изучении и преподавании литературы нельзя полностью отвлечься от субъективного восприятия и забыть, что у каждого в известной мере – свой Пушкин. Но еще важнее помнить, что это часто звучащее сочетание: «мой Пушкин» – разумно лишь до тех пор, пока ярко выраженное логическое ударение и смысловой центр в нем находятся на втором слове и пока Пушкин не заслоняется бесчисленным многообразием особенностей его восприятия разными людьми в различные исторические эпохи – особенностями, значительную часть которых Пушкин никак не мог предполагать и предвидеть. Однако здесь неминуемо возникает следующий вопрос: а какое-то более или менее определенное восприятие литературных произведений их творец вообще предполагает? И в теоретических и в практических разделах этой книги я стремился показать, что автор не просто предполагает, но и, что особенно важно, «строит», формирует принципиальные особенности читательского восприятия как неотъемлемую часть художественного мира литературного произведения. А если тот или иной реальный читатель не нашел, не почувствовал, не занял этой «приготовленной» для него в художественном мире позиции, то мир этот либо оказывается для него абсолютно чужим и совершенно непонятным, либо оказывается абсолютно «своим», лишь тавтологическим повторением содержания его собственной личности. Потеряв возможность в таком случае приобщиться, скажем, к пушкинскому миру, такой читатель, наоборот, превращает Пушкина в себя, что полностью исключает какое бы то ни было обогащение, развитие читательской личности.