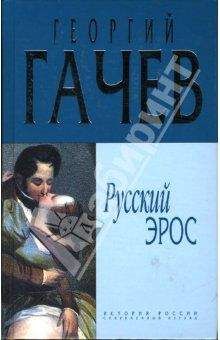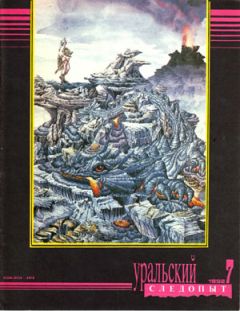1 Получается иерархия соответствии, которую можем представить даже таблицей:
Сверхидеи
Бытия
Состав
Человека
Стихии
Материя
Эрос
Дух
Труд
Логос
тело
ЖИЗНЬ
(продолжение рода)
дыхание, душа
«Я», личность
ум
земля
вода
воздух
огонь
свет
нас и красный цвет наших внутренностей- цвет обожженной (но не обугленной и не испепеленной) земли Недаром среди трех основных мировых цветов белый, красный и черный — красный занимает срединное положение (как сердце), и это — цвет жизни (тогда как черный и белый у многих — цвета смерти и бессмертия) Красный — цвет собственно человека, занимающего в мироздании срединное царство, тогда как белый — цвет и богов (точнее чистый свет, свободный от жизни), а черный — тьма и хаос И белый и черный — бесконечны Красный же есть цвет космоса, организации, структуры И человек сверху бел, снизу черен-волосат-лесист (модель — лицо на челе волосы не растут, но на бороде)
Лицо, кстати, — зеркало не души лишь, но всего существа человека А голова — сжатое повторение всего туловища, его стретта и кода (если музыкальными терминами сонатное allegro тела означить) Так в уме, в умозрении — вмещается все Ум же выше глаз (как Небо выше Солнца) мозг считают органом мысли Недаром красный — цвет истории, энергии и борьбы, и когда рабочие вышли на улицы, они взметнули из себя красные знамена и сказали Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови Блок «Двенадцать» И как язык пламени, взвиваясь снизу человека, всего его проницает, а проходя сквозь все его поры, все соединяет и обогревает, — таким языком пламени и пожаром проходит сквозь нас и кровообращение всепроницающие капельки крови — как платоновы пирамидки (из «Тимея»), частички огня — всепроницающие иголки Как дерево (уголь), словом, материя, горя, — дает желтый цвет светила, как воздух, газ, горя на солнце, дает синий цвет неба, — так вода, жизнь, горя человеком, течет красной кровью И если вода сама собой (та, что в животе) тяготеет стекать по откосу и горизонтали, то вода, обогненная в кровообращении, взбивает фонтаном вверх, повинуясь воле пламени «О, смертной мысли водомет!» (Тютчев «Фонтан») — и это опять образ человеческой личности Хотя, пожалуй, «личность» — это уже мир головы, а об ней особый разговор, так что, точнее, это образ «я»
Ибо на вопрос «кто Вы?» — мы приложим руку к груди, сердцу
(и скажем- «я — такой-то»), но не к голове ее или бороде приложим. Еще воды нашего существования моча, желчь, белое семя Coda по латыни — «хвост» так что карнавально вышло у меня приравнение головы коде — 17 XI 89
(соль земли) — тоже сквозь горнило пропущенные. Огонь врывается и в обитель рода — живота, и когда он воспламеняет семя, наш фалл, налитой кровью, вздымается вертикально- тоже как отрог нашего языка пламени. И если труд и производство есть огненная земля, то Эрос, секс, либидо и порождение — есть жизненная влага, жизненная сила, elan vital Когда мало огню воздуха (сожжены легкие у чахоточного), пламя устремляется вниз и воспламеняет воды. Недаром так снедаемы желанием люди с больными легкими («Дама с камелиями», Добролюбов — см. дневник Левицкого в «Прологе» Чер-нышевского; также сюжет «Волшебной горы» Томаса Манна). В них наш квант, наша мера «я» исходит учащенными вспышками. И в сладострастии чахоточных — дьявольщина, в их глазах инфернальный блеск. Нервы — соки света, живительные духи, струящиеся по телу
21. XII.66. Оттягивает, оттягивает — что? Развяленность, телесная и душевная память — и все это от женщин: память соития и злости с одной, сопереживания с другой — оттого вниз дух взирает. Я — как нитями лилипутов притянутый к колышкам Гулливер. Воспламенись — и взметнись! — это я уму своему говорю. Но недаром образ языка пламени как руководящий и родной уму тут привел. Ум — тоже взметающий столп света, т. е. дух наш, обращенный вверх. Когда же он привлекается нитями лилипутов на мелкие низовые дела, вниз обращен, тогда он не разум, а рассудок, вынужденный разбираться, взвешивать всякую чепуху с серьезным видом. Ум, направленный вниз, так же невозможен, как язык пламени, обращенный искрами вниз, как человек к земле головой, а ногами к небу
Но отчего это так? Ведь молния-то низвергается. Может, огонь и в миру есть съединитель: неба с землей, земли с небом, — т. е. и здесь его струями кровообращение идет. Направленность огня вверх (при том, что лучи солнца и молния — вниз) наводит на идею, что огонь похищен (Прометей), низринут, выслан (Гефест) — и издалека все время возвращается. Горение есть молитва, прошение, воздевание рук горе, есть язык пламени — слово огня. Потому свеча — при молитве — и есть образ жизни человека, и когда в поминание усопшего ставят свечу, ею, через этот проводник, слово нашей души ему доставляют. И недаром жертвоприношения — с помощью огня: алтарь, треножник, священный огонь, сжигание — и дымы и ароматы шли вверх — в ноздри богов. Представим, если бы жертвоприношения не сжигали, а поливали водой, — не было б чувства, что жертвы наши по адресу пошли. И, конечно, то, что человек ест вареную, обожженную пищу, а не сырую, — это не просто обычай и гигиена
Обработка пищи огнем — это причащение вещи («сырья») к нашему людскому миру, к языку пламени, к идее Человек, к мере человека, к нашему кванту личности (недаром по вкусу каждому пища то больше, то меньше на огне держится); и уже так предварительно окрещенная, обогненная, очеловеченная часть животного или растения может быть допущена в нашу нутрь — в храм, в святая святых. Как человеку крещение в Бога — от воды, купели (чтобы утишить внутренний жар, геенну огненную), так и животному и растению крещение во Человека — через огонь. Так что человек со всех сторон, как герои в Валгалле, огненными стенами защищен — не подступишься. А что естся «сырым»? Плод: яблоко, апельсин, орех; ягода, арбуз — т. е. то, что над землей: на ней, поверх нее, вознесено и солнцем-лучом отеплено и освящено; то, что желтое, красное, как голова над телом (недаром щечки — «как персик», пушистые, личико — «как яблочко наливное»), или темное, как глаз (недаром глаза с вишнями, смородинами, продолговатыми сливами сравнивают). То же, что внизу и сырым естся (редька, лук, свекла, морковь), — из-под земли, как костер, вверх растет и вырывается, и все-то они — как язык пламени, и сами таят или горечь (лук, хрен, редька- горьки, горят, огненны, обжигают и воды — слезы источают из нас), или сладость (морковь, репа) — и это все зарытый, пещерный огонь. Репа, лук и т. п. — это все «пещерные люди». Но вообще, как правило, чтобы нечто удостоилось чести проникнуть в человека, к нему должны приложиться все стихии: его надо отрезать, разрезать, отделить (атом) и истолочь (земля); обмыть окрестить и в купель положить — в воде варить (вода); воздух, поскольку он не локален, а вездесущ, своей доли не требует, ибо и так им все пронизано; и, наконец, — вздувается огонь. Но что здесь от огня берется? Не свет, а тепло. Итак, опять закроем глаза, уйдем в теплую тьму и прислушаемся, вчувствуемся: что оттуда доносится. Когда исчез свет — раздался звук: стук, «тук-тук» — сердце бьет — наш вечный нутряной огонь, «мерами загорающийся и мерами угасающий» (перефразируя Гераклита). Вновь мы воспринимаем мир как прерывность и узнаем единицу как отмеренность (как в капле, как в атоме-частице, в отличие от непрерывности воздуха), но уже невидимую, неосязаемую. Время — невидимый огонь, пульс, биение. Прислушиваясь к биению сердца и к его отражению — бою часов (часы — вынутое сердце, как лампочка — солнце на столе), мы внимаем «глухие времени стенанья, пророчески-прощальный глас» (Тютчев). Биение сердца — это пунктир: точка зрения, атом — и пустота, есть — и нету, словом, единица-двоица: удар-то один, и замирание одно, а в итоге: да — нет, такт, двоица. Но отсюда — идея силы, воли, напряжения, прорыва (а не просачиванья), из чего и состоит всякая деятельность, труд. И что капля камень точит, смогли увидеть именно через прислушиванье к сердцу: услышав в капле его отражение и тоже работу. Ничто в нашем существе не есть работник par excellence, как сердце: все остальное (тела, воды, воздух, даже свет) — это сырье, привлекаемый материал. Сердце (наш Перводвигатель, регреtuurn mobile) превращает вещество нашего существа — в энергию. Своим рабочим тактом оно создает вдох-выдох (просто такт вдоха-выдоха длиннее, как оборот большого колеса на приводе от маленького), воздуху дает напор проталкиваться в поры, гонит по арыкам воды (пульс слышите в них, запрудив пальцем артерию). А когда оживляется и восстает фалл и начинает разогреваться и работать, то в высший миг он сам превращается в сердце: забившись и затрепыхавшись, как птица, — пульсирует и тактами извергает семя. Сердце туда уходит и из груди готово выскочить, но этого не слышно, сей миг близок к смерти — и смерть тогда не страшна. А что мы делаем в работе? Как в варке пищи мы причащаем к своей мере, кванту, естественную природу, так с помощью руки (что на уровне сердца) мы переливаем стук сердца в умерщвленную и к новому бытию нами воскрешаемую материю. Ибо труд есть сначала убийство естественной жизни — в дереве, которое срезают и выпиливают доску; в песке, что снимают с его наветренного места и обжигают в кирпич; затем из этих «деталей» слагается машина, город, где бьется мотор в самолете: «а вместо сердца пламенный мотор», и слышится сердце города. И вот уже засновали наши подобия — и мы даже начинаем завидовать их совершенству и, в обратной связи, и себя видеть как машину («человек- машина» — идея с XVII в., Декарт)