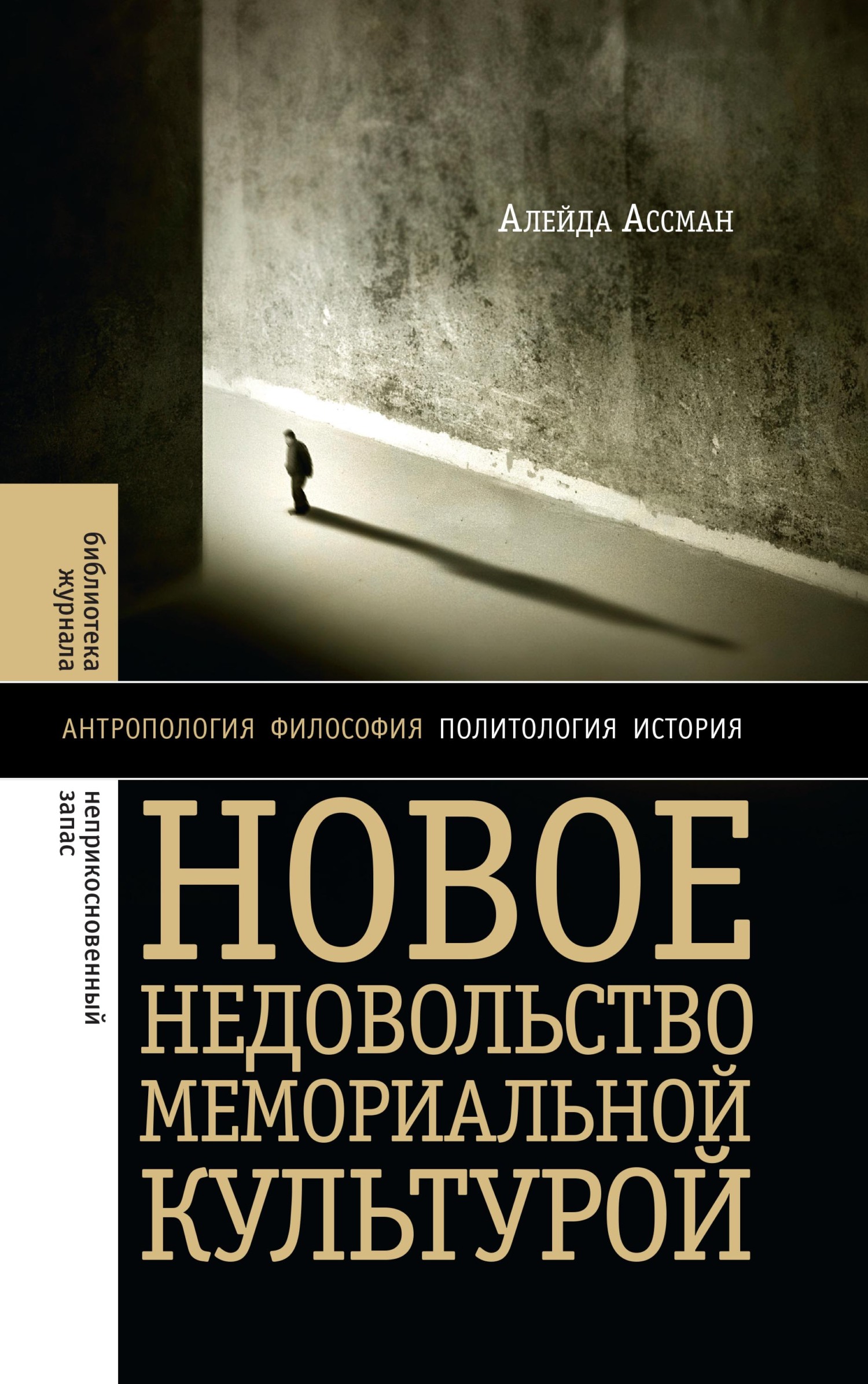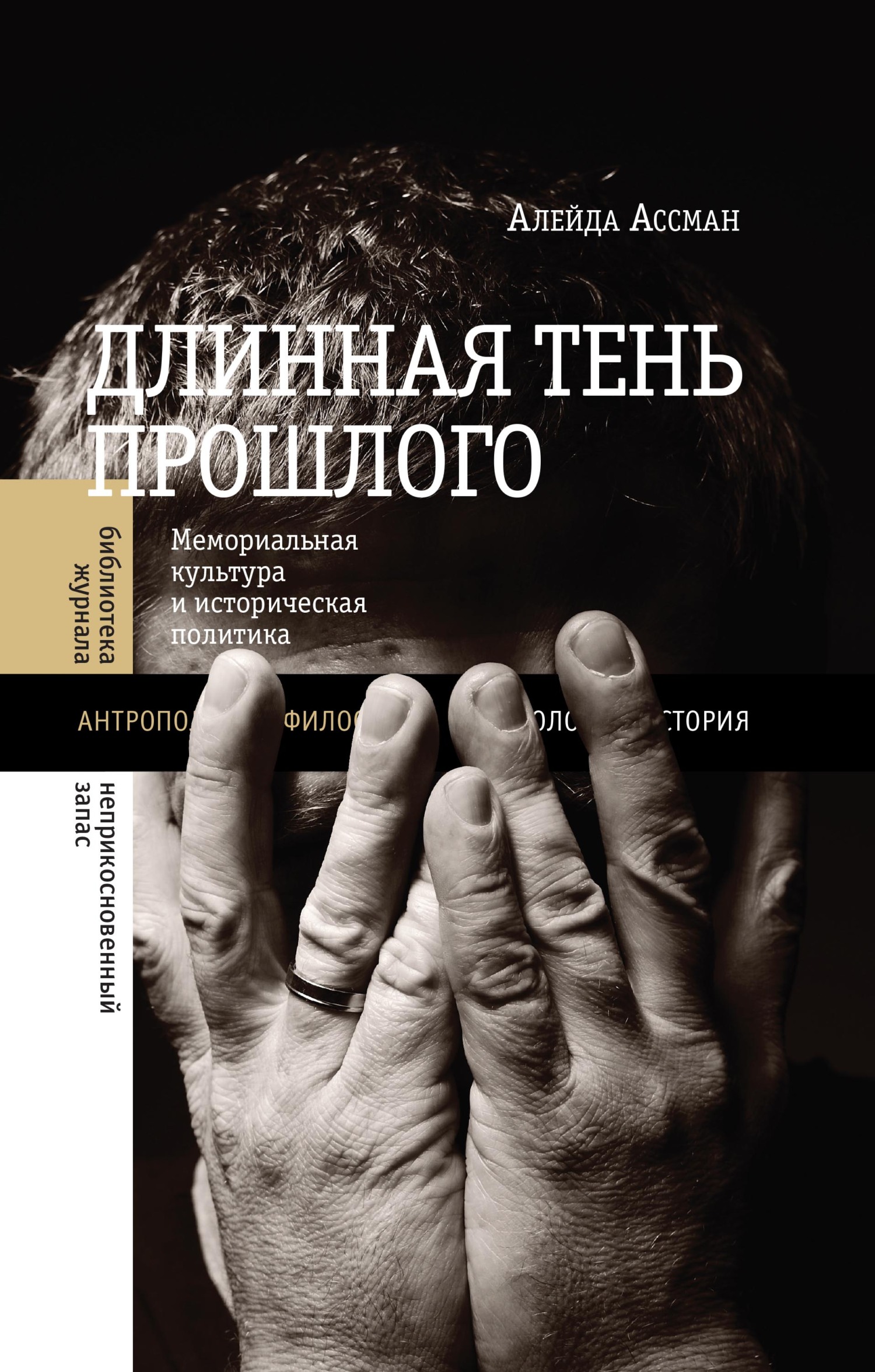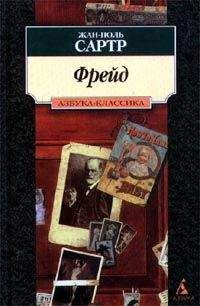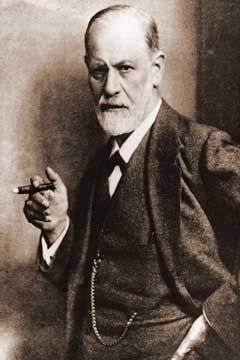их.
Многие из моральных постулатов и очевидностей, на которые мы до недавнего времени полагались в надежном контексте больших идеологий, теперь утрачены. Моральный фундамент коммунизма разрушился в 1989–1991 годах вместе с крушением Берлинской стены и распадом Советского Союза. Моральный фундамент капитализма выстоял несколько дольше, однако затем и он пережил тяжелый кризис, начавшийся банкротством крупных банков и едва не приведший к коллапсу экономики целых государств. Глобализация, которая поначалу выглядела стабильным продолжением западной истории прогресса и модернизации, приобрела новые угрожающие черты после атаки исламистов на Всемирный торговый центр, что имело глобальные последствия и для мемориальной культуры.
Система моральных ценностей, сменившая политические идеологии, имеет универсалистскую природу. В ее основе лежат права человека, получившие с 1980-х годов признание в качестве фундамента западной культуры, существующего вне политических и национальных границ. С признанием такой ценности, как права человека, изменилось само политическое мировоззрение, средоточием которого все меньше служат воины-герои и во все большей мере – гражданские жертвы. В центре политического мировоззрения находятся теперь не идеологические утопии, уповающие на «нового человека», а сама уязвимость человеческой плоти, ставшей мишенью политического, расистского или сексистского насилия. Ален Бадью свел политический проект первой половины XX века к простой формуле: «С определенного момента этим веком завладела навязчивая идея изменить человека, создать нового человека». Сам проект был настолько радикален, что «при его осуществлении уникальность отдельной человеческой жизни просто не принималась в расчет – эта жизнь была лишь расходным материалом». Этот революционный, нацеленный в будущее проект мнил себя «грандиозным, эпическим, насильственным» [128]. Подписание Декларации прав человека в 1948 году в Париже стало прямым ответом на европейский опыт пережитого насилия. Декларация сформулировала моральные требования к мировому сообществу, но не предусматривала механизма для их реализации. «Если бы Декларация содержала подобный механизм, она бы никогда не была подписана» [129]. Поэтому понадобились десятилетия, чтобы идея прав человека получила опору в виде новых форм политической практики. Государства прежде не выступали адвокатами, способными защитить права человека, поэтому в 1960-е и 1970-е годы возникли влиятельные неправительственные организации, взявшие на себя данную роль. Другой пример – матери и бабушки, проводившие демонстрации в Буэнос-Айресе в защиту убитых и пропавших сыновей и внуков, которых диктаторский режим бросал в застенки, которые были убиты или пропали без вести; такие демонстрации протеста вылились в новые формы политического действия. Парадигма прав человека вывела из забвения и другие жертвы истории, чьи судьбы и страдания обрели общественное признание. Парадигматическим примером смены исторической перспективы, когда общественное внимание переключается с героев на жертвы политического насилия, стали свидетельства людей, переживших Холокост; эти свидетельства получили всемирное признание, их начали систематически собирать и записывать.
Бадью, продолжая восхвалять насилие «героического коммунизма», с отвращением взирает на нашу современность, где доминируют ценности семейного счастья и прав человека; он осуждает эту современность как изнеженную (женственную), политически истощенную и нежизнеспособную. В противоположность ему мораль тех, кто видит себя живущими в постидеологическую эру, основывается на ценности индивидуальной человеческой жизни независимо от национальной, культурной или религиозной принадлежности человека. Новая мемориальная культура заключила союз с политикой, защищающей права человека, которые стали ценностным фундаментом и ориентиром для будущего.
Морализация всегда изначально встроена в рамки нашей памяти. Но мы знаем, что рамки памяти изменчивы, как изменчивы и ценностные установки. В конечном счете морализация означает ответы на вопросы: о чем мы разговариваем и о чем предпочитаем молчать? Что не вписывается в общую картину и потому отбрасывается? На такие вопросы можно ответить на примере телесериала «Наши матери, наши отцы». По замыслу фильма родителей следовало показать реалистично, со всеми положительными и отрицательными чертами. Но в их образ не вписывался антисемитизм, поэтому фильм произвел переадресацию, наделив антисемитизмом польских партизан. Подобный ход, вызвавший резкий протест с польской стороны, демонстрирует, куда может завести снисходительность к самим себе: проблемный сор прошлого выметается за пределы страны, за границу, реанимируя старый образ врага. Антисемитизм проявляется еще в одном крошечном эпизоде телесериала. Второстепенный и довольно отталкивающий персонаж, немецкая домохозяйка, должна внушить зрителю мысль: наши матери и отцы были совсем не такими, как эта женщина! В наших семьях – как показано немецким зрителям – дети и до 1941 года дружили с еврейскими детьми. Донос на медсестру-еврейку не убавляет симпатий к Шарлотте, ибо представляется неожиданным, немотивированным поступком, за которым к тому же следует моральная корректировка, – Шарлотту постоянно мучают укоры совести. Внутренний мир персонажей, включая их восторженное отношение к национал-социализму, фильм не раскрывает. Причина проста: нынешний зритель не знал бы, что делать с подобным развитием характера; ведь на этом не построишь захватывающий сюжет. Если событие болезненно затрагивает наши моральные ориентиры, лучше заменить его острым батальным эпизодом, а антисемитизм можно переадресовать польским партизанам.
Морализацию не следует мыслить как нудную проповедь, строгий указующий перст, ибо упрощение прошлого, подгонка исторических событий под нынешние мерки является лишь одной из форм морализации. В качестве нормативной селекции исторического опыта морализация чурается инаковости, многообразия, неоднозначности. Наши взгляды на национал-социализм со временем действительно изменились. Ульрике Юрайт продемонстрировала на примере Гюнтера Грасса, как сдвигались рамки памяти в послевоенной Германии. В 1960-е годы Грасс (хотя и не публично) рассказывал друзьям о своем членстве в СС, но затем на протяжении четырех десятилетий тщательно избегал этой темы, как в приватном, так и в публичном общении. Как в случае с международным скандалом вокруг вымышленных детских воспоминаний Биньямина Вилкомирского, здесь наличествует прямая связь между тем, о чем в данный момент можно говорить, и тем, что хочет или не желает слышать общество. По мере растущего сочувствия к страданиям жертв усиливалась и демонизация преступников. Чем яснее и подробнее становилось знание о поголовном истреблении европейских евреев и чем более расширялся моральный дискурс жертв, сопровождающий это знание и благодаря морально-метафизическому языку превращающий само историческое событие в негативное откровение абсолютного зла, тем труднее оказывалось современникам этого исторического события вписывать личные биографии в сформировавшиеся рамки памяти. Молчание, которое в первое послевоенное десятилетие еще было «коммуникативным умолчанием», усугубилось вследствие самоцензурирования, табуирования личной биографии под воздействием новых нормативных рамок памяти. Приведенный пример вновь подтверждает, что морализация истории возрастает по мере удаления от нас самого исторического события. Как отмечает Ульрике Юрайт, пока были живы очевидцы, общество преступников хорошо знало, «что немцы действительно приняли национал-социализм, активно поддерживали его, сражались за него, руководствуясь своими убеждениями, и при необходимости были готовы убивать» [130]. Моральные рамки памяти о Холокосте обернулись тем, что об этой правде никто не хотел рассказывать и никто не хотел слышать