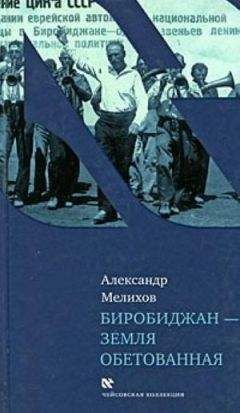(«Происшествие»), а впоследствии становящаяся моделью для Шарлотты Корде и доводящая живописца до смертоубийства («Надежда Николаевна»), – все они почти лишены живых человеческих черт.
Однако же есть жанр, которому точная психология, точные живописные детали и не требуются, – это сказка, притча. Я думаю, если бы Гаршин освободился от передвижнического реализма, вдохновившись какими-то уроками символизма, – это позволило бы ему сделаться гораздо более крупным и оригинальным художником. Недаром пальма, разбивающая социальные оковы оранжереи и столкнувшаяся со смертоносным холодом мироздания («Attalea princeps»), безумец, ценой жизни уничтожающий мировое зло, воплотившееся для него в невинном алом маке («Красный цветок»), вошли в число вечных образов русской культуры.
Но рок судил иное.
Гаршин постоянно жил в страхе перед возвращениями своей болезни, под властью которой он совершал поступки, отличающиеся не только высоким строем души, но и нелепостью тоже. Так, стремясь проникнуть к министру внутренних дел графу Лорис-Меликову, чтобы просить о помиловании террориста Млодецкого, он завладел роскошной шубой своего знакомого, дабы сразить ею швейцара. Чтобы встретиться с московским обер-полицмейстером Козловым, он отправился в публичный дом и устроил там пышное угощение для его обитательниц, а потом отказался платить, по дороге в участок еще и выбросив последние двадцать пять рублей…
После подобных приступов Гаршин мучился от стыда, не делая себе никаких скидок по болезни. Страх рецидивов мешал ему писать, да и впечатлений для писателя-реалиста от такой жизни он получал маловато, и гнет самодержавия здесь был ни при чем.
В марте 1888 года в припадке невыносимой тоски Гаршин с третьего этажа бросился в лестничный пролет. Рок и на этот раз над ним посмеялся: его нога застряла между печью и перилами, но удар головой о стену решил дело – Гаршин умер на третий день, успевши раскаяться и в этом поступке.
«Не могу Вам сказать, до какой степени смерть его огорчила и поразила меня, – писал поэт Плещеев Чехову. – Из всех молодых писателей, которых Вы в Петербурге видели и не видели, это был, бесспорно, самый чистый, самый искренний и самый симпатичный человек… Недаром он всегда был против речей на могиле. В них всегда наполовину фальши и показного. Так было и тут. Те же, которые его любили и ценили, едва ли были бы в состоянии что-нибудь сказать. Слезы не дали бы им говорить».
О нем и до сих пор почти не говорят.
Кажется, только дети не устают потешаться над его лягушкой-путешественницей: «Это я! Это я придумала!»
Явление Толстого Западу произошло в такую пору, когда уже отчетливо выявилось, что цивилизация есть движение от дикости к пошлости: все титаническое нейтрализуется в качестве курьеза и утилизируется в качестве шоу.
Толстой это успел и увидеть, и оценить. Еще при его жизни наш матерый человечище на международной выставке был включен в «шествие мудрецов» наравне с Сократом, Конфуцием и прочими Учителями человечества (актеры были загримированы под Учителей не только снаружи, но даже изнутри: они могли отвечать на вопросы зрителей в духе своих учений). И когда один из преданнейших почитателей прибежал к нему с этой радостной новостью, Толстой лишь покривился: они из всего сделают комедию. Срыватель всех и всяческих масок был прав: его идеи не породили никакого заметного европейского толстовства, а разве лишь сказку о многотерпеливом народе Каратаевых (разом рухнувшую вместе с империей). Лев же Николаевич отнюдь не намеревался поражать мир своим архаическим титанизмом или очаровывать сказками – он всерьез желал увести его и прежде всего Россию с того пути, который и сегодня считается магистральной дорогой человечества.
Толстой не видел оснований считать рациональным (разумным) тот образ жизни, который отнюдь не делает людей счастливее, да еще и несет с собою в лучшем случае взаимное отчуждение, а в худшем ненависть, доходящую до внутренних и внешних войн. У нас, у России тоже, казалось бы, мало причин обожествлять «прогресс», пролегающий через ГУЛАГ и Освенцим, через Сталинград и Хиросиму в полную неизвестность. Но все-таки если бы мы пожелали отыскать ту дату, после которой все попытки свернуть с «общечеловеческого пути» уже были трачены завистью к более удачливому «золотому меньшинству», это был бы год смерти Толстого. Его аристократическое отвращение к успехам либеральной цивилизации уж никак не было отвращением лисицы к недозрелому винограду – русский гений презирал «прогресс», взирая на него исключительно сверху вниз.
На Западе прогремели главным образом те «анархические и нигилистические» взгляды позднего Толстого, за которые он был отлучен от Нобелевской премии – как же это можно всерьез отрицать и государство, и церковь, и собственность, и брак в его тогдашнем (а тем более нынешнем) состоянии! Однако Толстой еще и в пору первой серьезной российской либерализации рубежа шестидесятых в собственном журнале «Ясная Поляна» высказывался о прогрессе и либерализме очень даже нелицеприятно. Начиная с самого святого – с университетов: их-де было бы совсем неплохо уничтожить, ибо университеты дурны.
«Никто никогда не думал об учреждении университетов на основании потребностей народа. Это было и невозможно, потому что потребность народа была и остается неизвестною. Но университеты были учреждены для потребностей отчасти правительства, отчасти высшего общества, и для университетов уже учреждена вся подготавливающая к ним лестница учебных заведений, не имеющая ничего общего с потребностью народа. Правительству нужны были чиновники, медики, юристы, учителя, – для приготовления их основаны университеты. Теперь для высшего общества нужны либералы по известному образцу, – и таковых приготавливают университеты. Ошибка только в том, что таких либералов совсем не нужно народу».
Из университетских студентов выходят «или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною молодостию и не находящие себе места в жизни, так называемые люди университетского образования, развитые, т. е. раздраженные, больные либералы». «Кто та малая часть, верующая в прогресс? Это так называемое образованное общество, незанятые классы… Кто та бо́льшая часть, не верующая в прогресс? Это так называемый народ, занятые классы… Прогресс тем выгоднее для общества, чем невыгоднее для народа». «Чем более человек работает, тем более он консерватор, чем менее он работает, тем более он прогрессист».
Вы, нынешние, – ну-тка! Этот консерватор и правительство, и дворянство заносит в прогрессисты, а в консерваторы – «мужика-земледельца, чиновника на месте, фабричного, имеющего работу». А все потому, что гармонию Толстой считал более важным качеством, чем развитие, ибо утрата гармонии есть утрата счастья, ощущения своей жизни правильной и разумной.
Птица, коза, заяц, волк должны кормиться, «множиться», кормить свои семьи, и человек должен