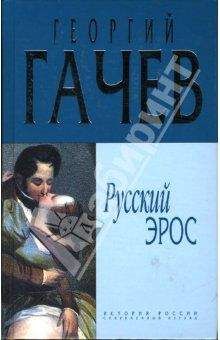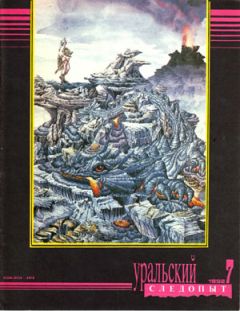Именно состав и консистенция Земли заставляет нас представлять такими ее отношения: в ней нутро не абсолютно плотно, но есть там и тяжелое вещество, средоточие (откуда центр и сила тяготения); и полости, бездны, провалы, пустоты — Тартар; мглы и мрак — Эреб; и воды — Океан мировой с ее границ и сквозь нее проникает; и огненные — летучие реки по ее нутру струятся. То есть рельеф ее, состав ее внутри и консистенция — те же, что и в корпусе человека. Ненасытная прорва — Тартар — нашего живота, что как бочка данаид, наполнившись, вновь опустошается; Сизифов труд сердца, что вкатывает с усилием вверх реки крови, а они бурно вновь вниз стекают (опять снова здорово кати камень вверх). Харон= наш язык: перевозчик существ и кусков и тел из внешнего мира вовнутрь — через слюни Стикса. Наша утроба, наше нутро и есть Аид, а наши внутренние органы и суть те мифические грешники, что обречены вечно (для них — пока жива утроба) выполнять свою бессмысленную (для них) работу, ибо не видят, не знают ее проявлений и результатов на верхних этажах, где ум, свет, слово, дела, добродетель. Бесы — все скептики и пессимисты, когда судят выше сапога: о смысле всего бытия. Наша утроба — наша кочегарка. Но Земля знает в себе и утробу, знает и небо над собою, к тому и другому причастна. Так что она ведает и тоску и геенну огненную — и радость и просветление. Ее мысль всеобъемлюща. Антей может приникать к лону Земли, чтобы упокоиться, уснуть вечным сном — тогда он втягивается через воронку вниз, внутрь Земли, к их общему прародителю, по венам. Но Антей попадает не на вену, а на артерию — и на этом фонтане жизненных соков, бьющем вверх, он выносится опять в небо. Если бы огонь попадал на поток нефти, всасывающийся внутрь, — и он бы потух, и нутра бы земли не зажег. Но раз он горит и взвивается вверх, значит, он попал на струю, бьющую из земли вверх
Но я изменил рту — снова растекся мыслию по древу, по всему телу бытия и Земли; но это оттого, что Эрос растекся по древу моего тела, по моему трупу («труп» по-болгарски, — полено, бревно)
Остановился я на соотношении рот и вода Кстати, вчера, быв на ней, а потом видев женщин на выставке Пикассо, ощутил, что женщина не только вся волниста (3 волны по ней проходят), но и капельна груди — капли, шары — и вдруг доиться стали сочится капель молочная Все существо, все вещество к единому знаменателю (т. е. значению) приводится к семени в нас, к молоку в женщине И вот на выходе из человека — его суть, его свод то одно и единое что сотворяется из множества земель, вод и прочих видов, которые в нас входят, — капля семени все их содержит в себе будущие и прошлые, так что даже дырочка в ухе матери в ухо к дочери переходит Но отчего я, даже когда в исступлении, не мог много сосать ее молоко, а сразу тянуло ее кусать — сосок и грудь? Отчего и она (раз я не мог в ее недавно разродившееся лоно изливаться, она приняла мое семя верхним влагалищем) тут же зажалась, глотать не могла Видно, здесь противоестественное бы совершалось молоко ее, которое есть ее выход, исход, а не вход, предназначено младенцу, будущему, — ему и вкусно, я же смотрел на сдоенное в бутылочку молоко, что она должна относить, — с чувством озноба, мистического ужаса, которое через отвращение оберегало свое табу для меня ведь если бы я к нему присосался, я б нарушил ритм космоса — и замкнул бы на себя бесконечность рода людского (себя, отца, сделал бы и своим сыном, сосунком), и превратил бы ее линию, сквозь меня проходящую, в шар, и мы бы в нашем звене рода людского явили бы старицу- оскопленную семью, а семья есть каждый раз вр. и. о. рода людского, носитель семени (семья — семя) То же и она если бы приняла верхним влагалищем, которое есть узел особи, «я», личности этого человека, завет человечества, духа, — то, что предназначено во влагалище нижнее, что есть залог и завет рода людского в этом человеке, — тоже бы совершила нечестие — превратный ход Космоса и Хроноса земля как бы оскопила свое чадо — родителя (приказ Геи Крону в отношении Урана) и то, что она должна принимать на своем входе для вынашиванья и исхода, замкнула бы на себя, и супруги грех Онана бы совокупно сотворили Земля бы отвратила от себя свое плодородие Так назревают различия при том, что рот (и его полости в голове) аналогичен животу в теле, однако они не взаимно заменимы Рту дано другое плодородие доверено испускание духа, единого слова — при том, что впускаются все стихии Нижним же отверстиям дано лишь избранное, единое впускание семенифалла женщиной, тогда как выпускание множественно и земля (кал), и вода (моча), и воздух (газы), и лишь огонь, что по своей природе возносится вверх, через низ органически не может выходить Когда женщина рожает, в ней — как качели одновременно выпрастывается низ и набухает верх — грудь, выходит земля и накопляется вода (притом расположены так, что уровень входавыхода земли ниже уровня истечения вод) Вода-жизнь в ней взбивает фонтаном вверх, как и при излитии семени из мужчины То есть вода в человеке обретает несвойственное ей направление вверх (у четвероногого это вниз — возврат земле) и подчиняется направлению огня значит, в человеке и вода-жизнь языком пламени организована — фонтаном взмывает вверх (тогда как кровообращение у животного распростерто на плоскости, как естественно располагаться воде, — и причастно, скорее, параллелепипеду, чем столпу и пирамиде) Вот почему недаром сказано, что именно огонь, его дар и к нему причастность, отличает человека от животного, и это не только во вне человека сказывается в очаге жилища, горнах промышленности и пламени мысли — но огненность прирождена нам в расположении нашего нутра и течений рек жизни в нем, которые — огненны, взмывают, бьют ключом, а не просто равномерно по кругу (или, точнее эллипсу)[48] вращаются, как у животного, кровообращение в котором более сродни орбитам спутников планет (животные так и обегают землю по поверхности)1, тогда как человек сродни взмывающей ракете, саморасширяющейся галактике, протуберанцу
Часть третья ЭРОС И ЛОГОС
2.1.1967. Видно, мне иного излеченья нет, как играться с чертами и резами — бумаготерапию принимать: мусолить ее. Вчера о спицетерапии прочел — вяжут и успокаиваются: оттоки токов происходят в ритме мерном спицевращения. И к тому ж — глядь! — а что-то полезное или замысловатое выйдет. Но так и на бумаге случается — еловики вывожу ручечкой, вязь плету какую-нибудь — и укрощаюсь и вот чуть не язык высуну, как Акакий Акакиевич, который весь пыхтел, когда к сладчайшим своим буквам приближался: он так выводил их округлости, завитки, как иной женщину обхаживает словом, взглядом или тело гладит — рукой по линиям проводит. Точно — в этом было сладострастье Акакия Акакиевича — женские фигурки в буквах выписывать, как сладострастье Гоголя — совокупляясь с бумагой, что-то позамысловатее ей бросить, выкинуть, отковырнуть: на бумаге он словами и образами просто отплясывал: «Эк вона — и просто-о-ору что! Это тебе не город, Питербурх — а Русь!»: белизна бумаги, как чистота божьего света, «ровнем-гладнем разметнулась на полсвета». Вот откуда графоманство российское: распоясываясь на белизне и ровнегладне бумаги, житель русский всю ее, матушку, обнимает, гладит — с нею сношается, помечтовывает, как бы эдак исхитриться, чтобы «объять необъятное» тело — той женщины, что, по чувству еще Ломоносова, разлеглась, плечми Великой Китайской стены касаясь, а пятки — Каспийские степи. На белизне бумаги всю ее, родимую Русь, по стебельку — по буквочке, по словечку — по лесочку перебрать и перещупать можно, а больше никак, ни-ни! — не подступишься[49]. И пословица: «Гладко писано в бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить» как раз и идеальную любовь выражает: в матовой белизне бумаги Русь такая ласковая, откормленная, гладкая, белотелая, податливая и романтическую горечь от столкновения с грубой девкой действительности. Графоманство в России — не только личное
16.1.86 упражнение неприкаянных одиночек, но и хоровая любовь государственного аппарата к России на нивах и холмах писанины разворачивается: отчеты, запросы, реляции, установки. Когда Алексей Александрович (а кстати, недаром созвучие: А-А: Акакий Акакиевич — Алексей Александрович) Каренин, отринутый в любви и утвердившийся в своем величии государственного человека, мысленно сочиняет докладную записку об инородцах, упущенных противным министерством, он же испытывает подлинное сладострастье от ловкого орудованья с номерами параграфов и статей: крючкотворец — тоже ой как не прост! Это — гладилин, гладиатор: бессильный уже старец или ребячливый муж воображает тело женщины «в завиточках-волосках» (Маяковский) и новые ей крючочки застегивает и расстегивает — вот эротическая подоплека крючкотворства: искусство затруднять соитие человека с делом, дела с истиной и смыслом. Посредник здесь — как сводник или сваха — сидит в канцелярии, а ко всему прикоснуться хочет через щупальца анкет, справок и необходимых заявлений. И то, что ничто без бумажек совершиться не может, — это право первой ночи феодального сеньора: аппарат блюдет его в превращенной форме словесных-письменных касаний, обнажении таинства, нарушения целомудренной немоты, и все-то должно быть названо «своими именами», а не окольными, обиняками, как имя бога в табу. Бумага, писанина — это бесстыжие зенки, что аппарат на Русь уставил, и та время от времени плюет в них языками пожаров: одна из главных народных радостей в восстаниях — это жечь архивы и списки. Однако освобождаться от бумаг и крючкотворства России нужно лишь время от времени — чтоб однова дыхнуть, дух перевести, разгуляться: хоть ночь, а моя! — а там хоть трава не расти.