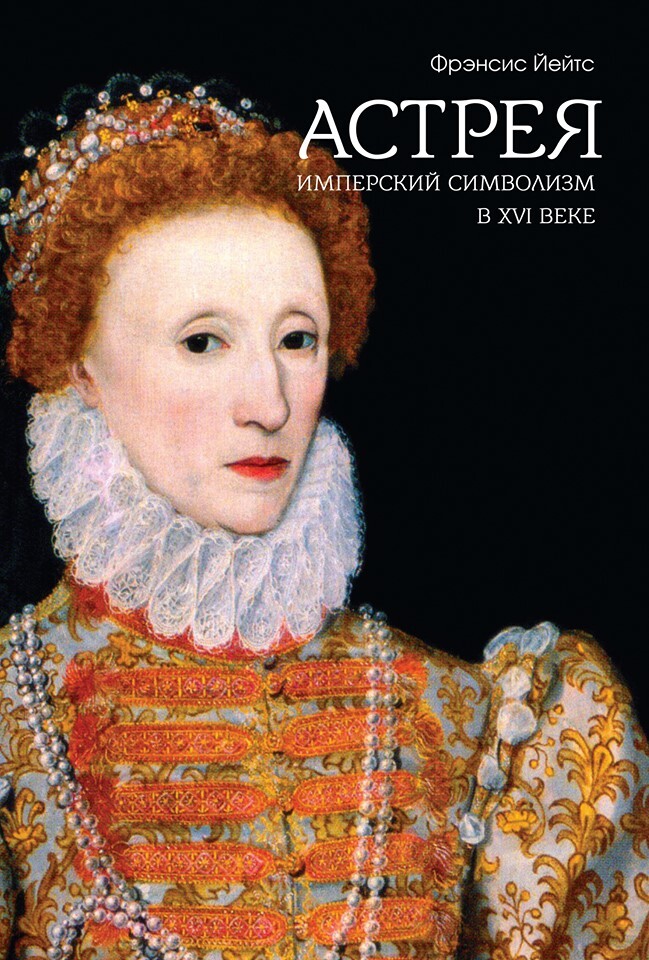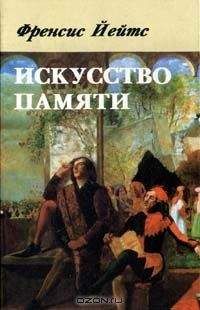мнемонические стихи для запоминания порядков мест, будь то порядки мест Ада или порядок знаков зодиака. Эти стихи принадлежат некоему собрату-доминиканцу, который был к тому же инквизитором. Инквизиторские
carmina придают искусной памяти особый оттенок ортодоксальности.
Росселий описывает создание «реальных» мест памяти в аббатствах, церквях и тому подобных строениях. Кроме того, он рассматривает человеческие образы как места, в которых должны запоминаться вспомогательные образы. Ниже образов он излагает общие правила и приводит наглядный алфавит того же типа, что и у Ромберха.
Тот, кто изучал по этим книгам искусную память, мог выучиться по ним и «чистой мнемотехнике», черпая здесь сведения о том, как запоминаются «реальные» места в зданиях. Правда, он изучал бы ее в контексте сохранившихся пережитков средневековой традиции, мест Рая и Ада, «телесных подобий» томистской памяти. Но хотя в трактатах сохранились отголоски прошлого, они все же принадлежат своему собственному, более позднему времени. Вовлечение имени Петрарки в доминиканскую традицию указывает на непрекращающееся гуманистическое влияние. В то время как новые веяния становятся вполне ощутимыми, сама традиция памяти начинает вырождаться. Правила памяти все более детализируются; алфавитные перечни и наглядные алфавиты способствуют возобладанию упрощенных решений. При чтении трактатов часто создается ощущение, что память вырождается в некое подобие запутанного кроссворда, помогающего коротать долгие часы монастырского уединения; многие советы не имеют никакого практического применения; комбинирование образов и букв превращается в детскую забаву. И все же такие занятия, возможно, были сродни духу Ренессанса с его любовью к таинственному. Если бы мы не знали мнемонического смысла ромберховской Грамматики, она показалась бы нам некой загадочной эмблемой.
Искусство памяти в этих поздних его формах все еще могло находить себе применение в качестве потаенной кузницы образов. Какое поле открылось бы воображению при запоминании De consolatione philosophiae («Утешения философией») Боэция 263, рекомендованном нам одной рукописью XV века! Не оживет ли благодаря нашим стараниям госпожа Философия и не начнет ли она, подобно ожившему Благоразумию, бродить по дворцам памяти? Возможно, вышедшая из-под контроля и отданная во власть необузданного воображения искусная память была одним из стимулов в создании такого труда, как Hypnerotomachia Polyphili («Гипнеротомахия Полифила»), написанного одним доминиканцем в конце XV века 264, в котором мы встречаемся не только с триумфами Петрарки и любопытной археологией, но также попадаем в Ад, поделенный на множество мест, где располагаются грехи и наказания за них, снабженные пояснительными надписями. Такая трактовка искусной памяти как части благоразумия заставляет нас задуматься, не порождены ли таинственные надписи, столь характерные для этого труда, влиянием наглядных алфавитов и памятных образов, не сплетается ли здесь, так сказать, призрачная археология гуманистов с призрачными системами памяти, из чего и возникает эта причудливая фантазия.
Среди наиболее характерных типов культивируемой Ренессансом образности особенно интересны эмблемы и impresa. Эти феномены никогда не рассматривались с точки зрения памяти, к которой они явно принадлежат. В частности, impresa представляют собой попытку запомнить духовную интенцию через некое подобие, о чем вполне определенно сказано у Фомы Аквинского.
Трактаты о памяти – чтение скорее утомительное, отмечает Корнелий Агриппа в своей главе о тщетности искусства памяти 265. Это искусство, говорит он, было изобретено Симонидом и усовершенствовано Метродором Скепсийским, о котором Квинтилиан отзывается как о человеке вздорном и хвастливом. Затем Агриппа наспех оглашает список современных ему трактатов о памяти, который называет «никчемным перечнем невежд», и всякий, кому случалось сталкиваться с огромным числом подобных работ, подтвердил бы его слова. Эти трактаты не могут вернуть людям обширную память, ушедшую в прошлое, поскольку мир, в котором появились печатные книги, разрушил условия, при которых было возможно обладание такой памятью. Схематические планы рукописей, памятные знаки, распределение целого по упорядоченным частям – все это исчезло с появлением печатных книг, которые не нужно было запоминать, поскольку имелось множество их копий.
В «Соборе Парижской Богоматери» Виктора Гюго ученый, в глубокой задумчивости сидящий в своей келье на самом верху кафедрального собора, разглядывает первую печатную книгу, попавшую к нему, чтобы нарушить порядок в его коллекции рукописей. Затем, растворив окно, он видит перед собой огромный собор, вырисовывающийся на фоне звездного неба, разлегшийся посреди города подобно исполинскому сфинксу. «Ceci tuera cela» («Вот это убьет то»), – произносит он. Печатная книга разрушит здание. Притчей, которую Гюго развивает, сравнивая наполненное образами здание с появлением в его библиотеке печатной книги, можно выразить и то, что произошло с незримыми соборами памяти прошлого в эпоху распространения книгопечатания. Печатная книга сделает ненужными эти громадные, начиненные образами строения памяти. Она избавит от обычаев незапамятной старины, когда любая «вещь» сразу же облекалась в образ и располагалась в местах памяти.
Сильный удар по искусству памяти, как оно понималось в средние века, был нанесен новейшими филологическими изысканиями гуманистов. В 1491 году Рафаэль Региус применил новую критическую технику к исследованию происхождения Ad Herennium и выдвинул предположение, что его автором является Корнифиций 266. Несколько ранее этот вопрос поднимал Лоренцо Валла, используя всю весомость своей репутации прославленного филолога против обычая приписывать этот трактат Цицерону 267. Ложная атрибуция еще некоторое время сохранялась в печатных изданиях 268, однако постепенно всем стало ясно, что авторство Ad Herennium принадлежит не Цицерону.
Так был разрушен старый альянс между «Первой» и «Второй Риториками» Туллия. По-прежнему считалось истинным, что Туллий является автором De inventione, «Первой Риторики», где он действительно говорит, что память есть часть благоразумия; но ставшее привычным следствие, согласно которому во «Второй Риторике» Туллий учит, что память можно усовершенствовать с помощью искусства, было отброшено, поскольку «Вторая Риторика» написана не им. На значимость этой ложной атрибуции для традиции памяти, идущей из средних веков, указывает тот факт, что открытие филологов-гуманистов упорно игнорировалось писателями, принадлежавшими этой традиции. Цитируя Ad Herennium, Ромберх всегда имеет в виду Цицерона 269, так же как и Росселий 270. О принадлежности Джордано Бруно доминиканской традиции памяти яснее всего свидетельствует тот факт, что в работе о памяти, опубликованной в 1582 году, этот бывший монах полностью игнорирует критику ученых-гуманистов, предваряя цитаты из Ad Herennium словами: «Слушай, что говорит Туллий» 271.
С оживлением мирского ораторского искусства в эпоху Ренессанса мы можем ожидать и обновления культа искусства памяти как мирской техники, свободной от средневековых ассоциаций. В эти времена великолепными достижениями памяти восхищались так же, как и в античности; возникают новые, мирские требования к искусству как мнемотехнике; появляются и сочинители трактатов о памяти, которые подобно Петру Равеннскому готовы эти требования удовлетворить. В письме Альбрехта Дюрера к его другу Виллибальду