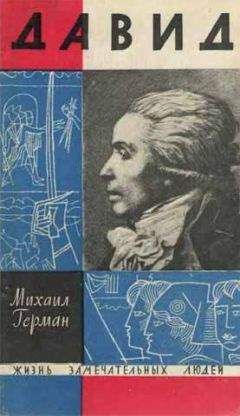глазами этих писателей и их персонажей. И, будто угадывая облик героев не написанных еще книг, именно ими населил свои холсты. Смешно было бы искать (и тем более находить) в персонажах картины прототипы литературных героев. Просто это люди «оттуда», увиденные глазами времени и подаренные потомкам. «Милый друг» Мопассана будет написан еще через семь лет, но ведь в картине Кайботта «Парижская улица, дождь» (1877, Чикаго, Художественный институт) тот самый Париж, унылый, суровый и одновременно пленительный, где разворачивается первая часть романа. В двух шагах отсюда, на улице Бурсо, как был уже случай упомянуть, жил нищий служащий конторы Северной железной дороги Жорж Дюруа, совсем неподалеку — Константинопольская улица, где снимала квартирку для их свиданий прелестная его подружка Кло — госпожа де Марель; поблизости бродят и персонажи романа Золя «Человек-зверь», встречаются герои написанных и ненаписанных книг и придумавшие их писатели, в промозглом воздухе дождливого Парижа тянутся цепи воспоминаний, ассоциаций, словно некая литературно-живописная субстанция Времени и Места, само вещество французской культуры 1870-х сгущаются здесь, в полотне Кайботта. А автопортрет, который многие исследователи видят в центральном персонаже, может быть живописным свидетельством постоянного присутствия Кайботта в этом квартале и любви к нему. Картина написана близ моста Европы, с Дублинской площади, куда выходят изображенные на холсте улицы Тюрен и Клапейрона. Площадь пересекала и улица Санкт-Петербург, на которой жил Мане, и художники, надо думать, постоянно встречались в этих местах.
Где сыскать более портретное изображение неуловимого нового Парижа, чем в этой картине! Город узнается сразу, мгновенно, но вовсе не по известным памятникам, но исключительно по «необщему выражению» своего облика, по этому горько-жемчужному колориту («В дождь Париж расцветает, точно серая роза», — писал Максимилиан Волошин), по острым очертаниям домов с мансардами и высокими крышами и по особой неодолимой жгучей энергии, которой наполнен этот город, энергии, которая не позволяет парижанам сутулиться под дождем, а словно бодрит их, и разгибает спины, и дарит новую — не веселую, но деятельную — бодрость. И трудно сказать, где более артистизма и портретности — в самой картине или в эскизе к ней (1877, Париж, Музей Мармоттана — Моне), где она еще только мерещится как неясное, туманное, но пронзительно-терпкое видение, исполненное со зрелой маэстрией художника, для которого не осталось препятствий на пути к абсолютной свободе и совершенной индивидуальности.
В Музее Мармоттана — Моне маленький этюд своей смутной и поэтической печалью выделяется среди сияющих красок Моне, в нем странная, чуждая импрессионистическому светлому мерцанию значительность, фигуры растворены во влажном воздухе, их меньше, это концентрация действительно мгновенного впечатления, построенного, однако, с потенциальной строгостью и силой.
Сама же картина — высотой более двух метров — царит среди небольших полотен в зале чикагского Художественного института определенностью рисунка и своеобразным патрицианством композиции, заставляющим вспомнить о Ренессансе, еще усиливая ощущение монументальности, событийности происходящего. Одно из удивительных качеств Кайботта — умение придавать лишенной сюжета и характеров сцене ощущение исключительности. Его картины, обладая внешними признаками жанра, лишены сюжета в еще большей степени, чем иные работы Моне или Ренуара. Но если Эдуар Мане всецело остается в пространстве видимого, концентрируя весь смысл художества в том, что воспринимается глазами, Кайботт сохраняет в пределах своих бессюжетных картин потайной слой, как сказали бы сейчас — «подтекст».
В его полотнах обычно ощутимо то, что можно было бы назвать «пластически выраженным одиночеством». Фигуры разобщены и замкнуты в горделивой самодостаточности, что странно и отдаленно напоминает о Брейгеле: округлые, отмеченные особым благородством линии, очерчивая контур каждой фигуры, дарят им ту завершенность художественного бытования, которая не позволяет им войти в эмоциональное или пластическое общение с другими персонажами.
Даже господин в цилиндре (автопортрет?) и опирающаяся на его руку дама на первом плане смотрят не друг на друга, а куда-то за пределы картины, а разделяющий их просвет нарисован так упруго и совершенно и так занимает взгляд зрителя, что становится равноправным «персонажем» холста. Удивительная картина! Зритель XX века может угадать в ней отдаленные прообразы магриттовских фантазий, хотя ничего сюрреалистического нет в этих одиноких, рассеянных непогодой, точно прорисованных фигурках, в этом тихом дожде, в возвышенной гармонии грустно и строго выстроенного мира. Фонарный столб, срезанный сверху рамой и продолженный вздрагивающим на мокром асфальте отражением, делит картину точно пополам, не изолируя части холста, но словно бы создавая некую ось этой маленькой вселенной, действительно исполненной кругового движения — от очертаний зонтов до пейзажа и жестов людей. Здесь возникает странная камерная планетарность, завершенность, будто за пределами этого пейзажа кончается и сама планета. Любопытно, что именно это качество особенно четко просматривается в подготовительном карандашном рисунке к картине (1876–1877, частная коллекция).
«Самая заметная (saillante) работа на выставке — это „Парижская улица“. <…> Есть талант, есть много таланта в этом полотне, которому странность (bizarrerie) иных деталей и резкость в точном воспроизведении реальности вовсе не мешают с честью соседствовать с картинами, признанными жюри Елисейских Полей [202]. <…> Преувеличенность деталей, огромность аксессуаров, мазки, свет, сам талант художника сконцентрированы на второстепенных вещах» [203]. Это, пожалуй, одно из самых точных и смелых наблюдений, опубликованных при жизни Кайботта, принадлежит блестящему литератору Эдмону Лепелетье, увидевшему в художнике связь с пластическими кодами грядущего, столь очевидную ныне. Угрюмое и изысканное красноречие деталей и в самом деле поражает, пейзаж наполнен предельно выразительными и в то же время скупыми «иероглифами» — обозначениями людей и предметов; странным образом в них воплощается напряженная внутренняя жизнь внешне замкнутых персонажей.
Художник и его герои смотрят на новую реальность, что называется, с открытым забралом, принимая ее как величественную данность, с тревожным и задумчивым восхищением. «Мост Европы» (1876, Женева, Музей Пети-Пале), возможно, первое столь значительное и масштабное поэтическое изображение этих «жюль-верновских» жестких и по-новому великолепных сплетений железных конструкций (ныне мост обрамляют низкие перила и простые металлические сетки), среди которых парижане поневоле ощущают новые ритмы и новую среду обитания. До Эйфелевой башни еще далеко, но эти угловатые балки, грозные в странной своей красе, уже говорят о новой, познанной и оцененной художеством эстетике. Здесь Кайботт оказывается первооткрывателем: то, что у Мане и Моне — лишь угадываемая аура, у него — пластическая истина в последней инстанции.
Кайботт