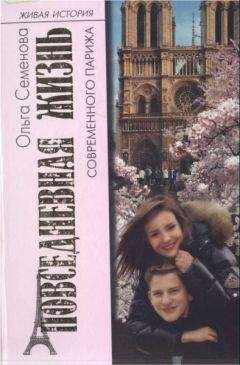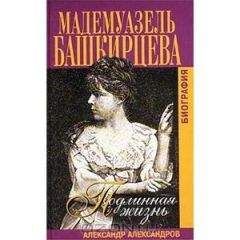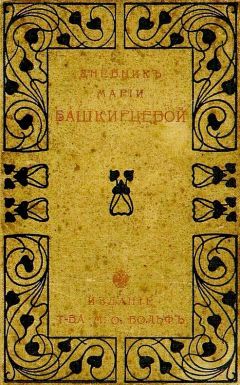Кэрол приехала в Париж из Чикаго в 20 лет, чтобы изучать историю искусства и литературы, и, как сотни молодых американок, основательно в нем задержалась. Она неизменно была полна творческих замыслов: что-то переводила, писала стихи, читала лекции (даже умудрилась как-то пригласить меня прочесть лекцию студентам о традиционном праздновании православной Пасхи), давала частные уроки и планировала устройство русско-французских выставок и фестивалей. Жила Кэрол в 11-м округе, на улице Ледрю-Роллен. Ее двухкомнатная квартирка с низкими потолками на последнем этаже всегда была солнечна, а из мансардных окон открывался столь любимый богемой вид на крыши Парижа. Больше всего мне нравилось бывать у Кэрол, когда к ней приезжали погостить американские подруги — тогда в маленькой квартирке становилось особенно светло и весело. В 1990 году у нее остановилась племянница Айседоры Дункан — Дорис. Кэрол в то время не на шутку увлеклась изучением творчества великой американки, посещала танцевальные курсы ее последовательниц и переводила на русский книгу о ее жизни. Кэрол быстро приготовила обед, молниеносно накрыла на маленький столик, разлила по бокалам розовое вино. Весь обед мы говорили о политике, благо к тому времени при советских эту тему уже вежливо не умалчивали.
— Что говорят о Союзе в США? — спросила я Дорис.
Дорис рассмеялась:
— Как всегда, у нас говорят, что перестройкой русские обязаны нам, свержению диктатуры Чаушеску румыны обязаны нам, положительным процессам в Чехословакии — тоже нам, и разрушению Берлинской стены немцы обязаны кому? Конечно же нам! Что поделаешь, сверхдержава, комплекс величия.
— Поэтому я и предпочитаю жить в Париже, — вздохнула Кэрол. — Итак, Дорис, ты согласна помочь мне в организации фестиваля имени твоей тети в Москве? Обещаю не уподобляться нашей параноидальной отчизне и не заявлять на его торжественном открытии, что я — первопричина возрождения русского балета и создательница вакхических танцев.
— Помогу, не волнуйся. Но имей в виду — я вдвое тебя старше. Так что на особую прыть с моей стороны не рассчитывай. Большая часть беготни ляжет на тебя.
«Беготня» Кэрол продолжалась долгих три года. В 1993 году, после многочисленных поездок, телефонных звонков, поисков спонсоров, несостоявшихся встреч, невыполненных обещаний, сумбурных факсов и запутанных писем, Кэрол, наконец, организовала в Москве международный фестиваль Айседоры Дункан. Артисты танцевали «Орфея и Эвридику». Кэрол, затаив дыхание, следила за представлением, еще не особо веря в то, что происходящее — реальность. В середине первого действия, как и полагалось в то анархическое время, в зале неожиданно загорелся свет, артисты испуганно замерли, публика, решившая, что начался антракт, ринулась в буфет, у Кэрол затряслись руки. Но администраторы вовремя спохватились, извинились, рассадили, успокоили и спектакль закончился благополучно, и были овации, поздравления, цветы, крики «браво» — одним словом всё, к чему с детства приучены российские зрители и артисты и что захлестывает океанской волной адреналина не избалованных этим европейцев. Кэрол, выведенная на сцену, смеялась, всхлипывала, роняла букет, опять смеялась, посылала воздушные поцелуи, вновь роняла букет и снова всхлипывала. Она возвращалась в Париж помолодевшей на десять лет. Появившиеся у глаз морщинки разгладились, потускневшие от стресса волосы вновь золотисто блестели. Она снова стала двадцатилетней девчонкой из Чикаго, для которой не было ничего невозможного, а наступающий день сулил только радость.
Глава двадцать вторая ПРЕДМЕСТЬЯ
Многие парижские предместья возникли как спальные районы при закрытых ныне заводах и фабриках. Работали на них эмигранты последней волны. Безработица, существовавшая с середины 1970-х годов, усугубилась в 1980-х, когда началась передислокация производств в Китай, Тайвань, Словакию, Макао и Румынию. Кто-то нашел место на стройках, но десятки тысяч арабских и чернокожих эмигрантов очутились в своих маленьких квартирках, на потертом диване перед телевизором, без особой надежды быть где-нибудь востребованными. Как говорят французы — terminus (конечная остановка).
Люди, в течение долгих лет бывшие экономическим мотором Франции, стали ее тяжелым балластом. Они быстро привыкли к бездействию и подали пример своим детям. Выросшие среди бездушных высоток, зарисованных граффити, на тесных детских площадках с грязноватым песком, многие из здешних юношей и девушек, видя бездельничающих родителей, не считали необходимым учиться в лицее или искать работу. До ближайшего музея — 20, а то и 30 километров. Бесплатны для молодежи до 18 лет только национальные музеи, вход в остальные стоит от двух до десяти евро. О театре и говорить не приходится — билеты в Опера-Гарнье (Старую парижскую оперу) или оперу на площади Бастилии стоят 5—10 евро (стоячие места или галерка без всякой видимости) до 170 евро, а в драматические театры в среднем от 8 до 50 евро. Школы изредка вывозят учеников в столичные музеи, но театры остаются для большинства «terra incognita». В этих районах катастрофически не хватает школ рисования, спортивных клубов, хоров, консерваторий. Ребята почти никогда не выезжают на каникулы, не видят моря и гор. Иногда каникулы организует школа.
Вот воспоминания девушки из предместья, получившей диплом воспитательницы и повезшей школьников из своего парижского предместья в Нормандию: «Я смотрела на удивительно красивый пейзаж и говорила детям: „Вы не понимаете, как вам повезло. Посмотрите, все спокойно. Мы не в ситэ, никто не кричит!“ Вставало солнце, на пляже не было ни души. И я замолчала, и все замолчали. Как хорошо быть вдалеке от ситэ! Как невыносимо царящее в нем напряжение…» Дети эмигрантов формируются на нескончаемых американских детективах, транслируемых по телевидению, и модных рок-и рэп-группах. Все телепередачи перебиваются (как и повсюду в мире) рекламой красивых машин, домов, каникул, путешествий. Общество потребителей, ничего не поделаешь.
В двенадцать лет здешние ребята еще мечтают о работе, в шестнадцать выбирают самый быстрый путь к получению рекламируемых благ — становятся торговцами наркотиков, которые в предместьях в ходу. По подсчетам профессора Жильбера Фурнье из университета в Шатено-Малабри, ежедневная доза парней из предместий — от 30 до 40 самокруток Самое сложное парижское предместье — департамент Сена-Сен-Дени. На 1999 год в нем проживало 300 тысяч эмигрантов. Каждая четвертая семья здесь — выходцы из Африки или Турции. Но проблема не в том, что в департаменте много эмигрантов, а в том, что в их среде (и особенно среди молодых) очень распространены безработица и преступность. Современные молодые люди из предместий агрессивны, обижены на забывшее их общество, не ощущают себя французами. Это они чаще всего освистывают Марсельезу на футбольных матчах. Их словарный запас беден, темы сводятся к обсуждению марок машин и одежды. Юноши из этого круга становятся жертвами радикально настроенных имамов, вербующих наемников для ведения джихада в Чечне и Афганистане.
Политический исламизм во Франции начал выдыхаться, но на смену ему пришел салафизм. Он ставит в пример верующих предков, призывает сконцентрироваться на морали и порвать все отношения с европейским обществом. Фанатики-бородачи забивают псевдо-религиозной чушью пустые головенки, и едут двадцатилетние французы по паспорту и изгои по самоощущению в далекие страны непонятно за что сражаться и непонятно за кого погибать. Те, кто не попадает в сети к исламистам, связываются с бандитами — почти половина изнасилований и ограблений, совершаемых в Париже, дело рук юношей до 19 лет из предместий. Часты нападения на женщин-автомобилисток Однажды напали и на меня. В тот день я ехала в мой любимый магазин в Сенте-Сен-Дени. Сумка небрежно брошена на переднее сиденье, все мысли о предстоящих покупках. Я даже не заметила двух темнокожих пареньков на мопеде, притормозивших на светофоре справа от машины. Неожиданно меня оглушил грохот — один из них проломил ломом боковое окно, завалив всю кабину осколками, просунул в образовавшееся отверстие черную худую руку, похожую на лапку лемура, испуганно схватил мою сумку, вскочил за спину приятеля, тот дал газу, и мопед, пару раз вильнув задом, был таков. Я не надеялась, что воров поймают, но решила подать заявление в полицию, чтобы страховая компания оплатила ремонт машины. Притормозила возле группы арабских юношей и спросила адрес ближайшего отделения — те только довольно хмыкнули, с кривой улыбкой поглядев на разбитое стекло.
Наконец я нашла отделение, вошла в светлый холл и огляделась. Все стулья были заняты людьми с мрачными физиономиями, ждавшими своей очереди. За стойкой сидел молодой полицейский-мулат. Он записывал имена потерпевших, их беду и передавал сведения сидевшим по кабинетам невидимым коллегам. Сразу после меня в холл вошла рыдающая негритянка: «У меня обокрали квартиру! Все перевернуто вверх дном, вынесено самое ценное!» Мулат с невозмутимостью телохранителя Нефертити записал имя негритянки в здоровенный талмуд и попросил подождать. Просидев с час, я поняла, что рискую остаться здесь на ночь — очередь продвинулась на одного человека, а ограбленные, обворованные или побитые все прибывали. Неразговорчивый мулат сжалился надо мной, объяснил, что заявление можно подать по месту жительства, и я с радостью покинула эту обитель слез. В комиссариате моего благопристойного района было на радость пусто, и уже через пять минут я увлеченно рассказывала о злоключении внимательно слушавшему полицейскому.