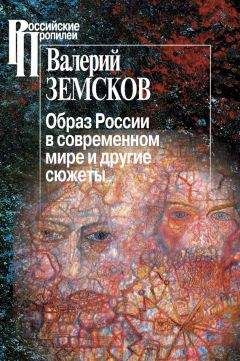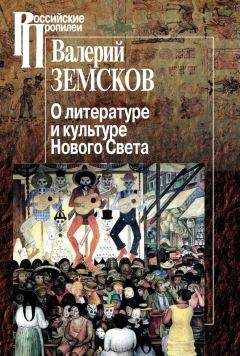Идея вечной жизни духовного наследия и постоянного присутствия его в сознании и жизни человечества, возникающая в связи с размышлениями о судьбах ацтеков, постоянна и важна для Бальмонта, как важна для него и идея неповторимости, индивидуальности и творческого равноправия всех культур: «Великие народы, завершая свои полные или частичные циклы, превращаются как бы в великие горные вершины, с которых, от одной верховности к другой, доносятся возгласы… Глубоко заблуждаются те, которые говорят о круговращении и простой повторности циклов. Каждый народ – определенный актер с неповторяющейся ролью на сцене Мирового Театра»[314]. Связанные (что видно даже из терминологии) с широко обсуждавшимися в те годы вопросами культурфилософии, эти мысли Бальмонта противостоят распространенным положениям о замкнутости и обособленности мировых культур, высказывавшимся учеными от Н. Я. Данилевского («Россия и Европа»), до О. Шпенглера («Закат Европы»). Творческое взаимодействие, преемственность, а на такой основе и возможность возрождения – так понимает Бальмонт процесс эволюции культуры. И эти теоретические положения получают полное подтверждение в поэтической практике, обнаруживая, как уже отмечалось, особенность, характерную для поколения русских символистов, и вообще коренную особенность русской культуры.
С. Аверинцев, сделавший тонкие наблюдения о стиле поэтического мышления и чувствования Вячеслава Иванова, сложившемся под воздействием романо-германской традиции, думается, не вполне прав, когда заключает, что этот поэт был «не до конца явлением русской культуры»[315]. Напротив, в принятии на себя – хотя и не всегда органично усвоенной, превращенной в безусловно «свою» – «всечеловечности» заключена вполне русская черта, особенно характерная для XIX в. России. Не была она неким мистическим свойством или признаком мессианского предназначения России, скажем, в том смысле, как понимал это Достоевский, а вызывалась особыми условиями культурно-исторического, общественного развития, которые на переломе двух веков, в канун грандиозного революционного слома, «подытоживали» духовный опыт развития человечества. (Черта, кстати сказать, казалось бы, неожиданно, а на самом деле вполне закономерно – если иметь в виду период, который переживает находящаяся в процессе становления культура Латинской Америки, – перекликается с латиноамериканской «открытостью» мировой культуре.) Жива эта черта и в символистах, как и в Бальмонте, хотя у него она выступает в особой форме, утрированной, едва ли даже не гротескной. Таков уж был этот человек, который все крайности русского символизма сочетал в особо наглядном, даже в шаржированном виде. «Всемирность» Бальмонта такова, что корнями он уже отлетает от своей земли, «открытость» миру превращается в растворение в нем, а «многогранность», которой он так дорожил, по меткому замечанию Вл. Орлова, – во «всеядность»[316]. Эти свойства Бальмонта следует иметь в виду, в его опытах в области перевода и в толковании поэзии индейцев, потому что, во многом обусловив его творческий почерк и как поэта, и как переводчика, и главное – его отношение к слову, они объясняют и характер результатов работы.
О. Мандельштам назвал Бальмонта «самым нерусским из поэтов», «чужестранным переводчиком эоловой арфы, каких никогда не бывает на Западе, – переводчиком по призванию, по рождению, в оригинальных своих произведениях»[317]. Впрочем, слово Бальмонта-поэта и слово Бальмонта-переводчика почти не имеет различий, оно везде равно бестелесно, как «калька» с какого-то языка «вообще». Именно поэтому столь неразличимо для несведущего сливались в единую монотонно-напевную мелодию – если говорить о его мексиканских опытах – и оригинальные стихотворения, и вольные переложения, и импровизации «на темы», и собственно переводы.
Книга «Зовы древности» была воспринята критикой тех лет как творческая неудача и свидетельство падения таланта. Вот как резко писал Блок в эссе «Бальмонт» в феврале 1909 г.: «…это почти исключительно нелепый вздор, просто – галиматья, другого слова не подберешь. В лучшем случае это похоже на какой-то бред, в котором, при большом усилии, можно уловить (или придумать) зыбкий, лирический смысл…»[318] Действительно, то были годы, когда «бальмонтовщина» – поверхностная, облегченная музыкальность, позирующая «напевность» и самоудовлетворенность не столь уж разнообразными фонетическими играми, а отсюда и размытая семантика слова, облегченность и однообразие словаря, гладкопись – подавляла поэта. Когда этот инструментарий использовался для перевода и толкования народных поверий, древних космогоний, чем занимался тогда Бальмонт, результаты бывали особенно плачевными. И все же, думается, суровая оценка, данная Блоком, несправедлива по отношению к латиноамериканскому циклу Бальмонта. Включенные в него произведения, хотя и «зараженные» утрированной напевностью, интересны не только как факт обращения русского поэта к далекому материалу. От представляющих наименьшую ценность вольных толкований мотивов индейской поэзии и произведений на «темы» (в разделе «Перу» таков, например, «Гимн Солнцу. Песнь хоровая») следует отделить переводы, которые не только знакомят читателя с оригиналом, но и обладают несомненной эстетической ценностью.
Разумеется, тот, кому знаком бальмонтовский почерк, узнает в переводах из «Апу Ольянтая» и его жеманную лексику, и характерную гладкопись. Но кто сказал, что перевод должен быть нейтральным по отношению к личности, типу мышления и чувствования переводчика, к его мироощущению? Просто в давнем споре двух традиций перевода – переводить «без себя» или «через себя» (споре, который вряд ли когда-нибудь разрешится) – Бальмонт и своими склонностями личного порядка, и своими символистскими убеждениями вписывается во вторую из традиций. И не случайно, что едва ли не первые похвальные слова о Бальмонте-переводчике (а большинство, отмечая отдельные удачи, испокон веку его ругательски ругали[319]) сказал уже в наше время Б. Пастернак, который сам (как и символисты) принадлежал к романтической традиции перевода Жуковского – Лермонтова[320].
Именно в нее вписывается перевод «Двух птичек», звучащий на бальмонтовскую «музыку» поистине завораживающе:
День и ночь ждала, тоскуя.
Ночь и день. Лишь воет вьюга.
И подруга начинает песню ласки и печали:
«Где ты? Кто об этом знает?
Может, реки? Может, дали?
Реки льдяные безмолвны,
Дали скрыты мглою вьюжной.
Где твой голос, неги полный?
Где твой зов – напев жемчужный?»
Сорвалась, тоскует, ищет,
На шипы летит, не видя.
А свирепый ветер свищет,
И рычит в глухой обиде[321].
«Музыка» вполне на месте, потому что, как заметил Бальмонт, «перуанский лиризм утончен и нежен, как их (местного населения. – В. 3.) гончарное искусство»[322].
Но наиболее богатым, как уже отмечалось, хотя и наиболее трудным для восприятия, был раздел «Мексика». Здесь Бальмонт поместил тринадцать произведений, не отделив своих импровизаций «на темы» от переводов «безумственных молитв» ацтеков, гимнической поэзии и туманно объяснив их смысл. Все это, несомненно, могло показаться «галиматьей» читателю, совсем незнакомому с пантеоном богов и мифологией ацтеков, которая ничуть не менее значительна и интересна, чем, скажем, мифология древних греков.
Уникальное и выдающееся явление в мировой культуре, поэзия ацтеков еще ждет русского читателя, и как не воздать должное Бальмонту, который первым в России оценил высокое искусство древнего народа! Миф, повествующий о рождении бога – воителя Уицилопочтли, поэт перевел как «Песнь Со-щитом-рожденного и Владычицы земных людей» в сокращении, но сохранив канву оригинала[323], и писал о нем: «Эта легенда цветовыми и световыми своими эффектами напоминает златоцветную живопись Итальянских примитивов. Грозовой и облачный миф»[324].
За короткий срок пребывания в Мексике Бальмонт основательно познакомился с мифологией ацтеков, о чем свидетельствуют его, хотя и путаные, «изъяснительные замечания». Очевидно, главным источником сведений о культуре ацтеков послужила для него приобретенная им «Всеобщая история о делах в Новой Испании» Бернардино де Саагуна (ок. 1498/1500—1590), который сохранил для истории гимническую поэзию ацтеков, хотя можно предположить, что для перевода Бальмонт использовал поэтические версии Э. Селера[325]. Их критически пересмотрел наиболее авторитетный знаток культуры ацтеков Анхель Мариа Гарибай[326], его версии – незаменимый источник для перевода.
В мои задачи не входит разбор и сопоставление переводов Бальмонта с современными версиями. Назову лишь те тексты, которые можно считать переводами, что выявляется сравнением с текстами, приводящимися А. М. Гарибаем: это «Песнь Вицтлипохтли», «Песнь облачных змей», «Песнь Богини рождений», «Песнь Богини Маиса»[327]. В них Бальмонт в основном сохраняет близость к оригиналу. Вот как звучит в его интерпретации «Песнь Богини Маиса», смысл которой он видит в призыве к весеннему возрождению природы: