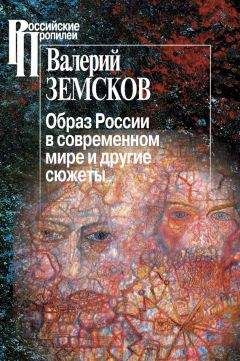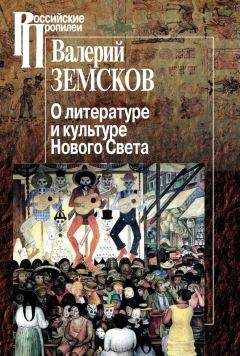Характерно, что и европейцы, пытаясь свести концы с концами, также обращались к индейским мифам о белых бородатых Боголюдях – так возник специфический американский христианский миф, отождествлявший Кетцалькоатля со св. Фомой, якобы крестившим индейцев. Предпринималось множество различных попыток преодолеть поразительное для европейского сознания противоречие, что в Священном Писании нет никаких упоминаний о Новом Свете. И довольно трудно сказать, что в XVI–XVII вв. перевешивало в создании картины мира и образа Нового Света – рациональное или мифологическое.
В такой ситуации изменилось и содержание ключевого концепта эпохи – «правда», «истина». Ведь «католические короли», пославшие Колумба в «море мрака», требовали совершенно правдивых отчетов, т. е. «были». А в ответ получали информацию, представлявшую собой смесь реального и фантастического. «Истина» оказалась глубоко мифологизированной и на уровне концептуального осмысления новооткрытой земли. Описание Америки зависело от того, как ее видели, – «раем» или «адом».
В словесности XVI в. явно, что характер «правдивости», «истинности», информации, повествования определялся не только и даже не столько точным отражением событийного ряда, фактологии (хотя, разумеется, это первое условие), сколько тем, как они интерпретируются.
Привычное утверждение, что «факты говорят сами за себя», не более чем иллюзия. Факт сам по себе не способен ничего сказать. Между фактом и текстом стоит автор с его мировоззренческой позицией, а это значит, что нет и не может быть абсолютной были документального образа мира. Любой образ мира по отношению к «сырой» действительности так же условен, как и художественный, с той лишь разницей, что в были (или в документе) недопустимо искажение событийного ряда, т. е. использование вымысла как «дополнительного» средства типизации и обобщения. Преображение событийного ряда происходит в ходе его интерпретации, здесь-то и рождается условная «правда» были как документа. Удачен в этом смысле термин, введенный Л. Я. Гинзбург в отношении документально-художественной литературы: «несвобода вымысла».
Граница вымысла в документально-художественной литературе – «событийный ряд», в принципе «вымысел» свободен внутри его границ, но характер и степень этого вымысла определяются и мировоззренческими позициями, и знанием, и интенциями автора.
Достаточно вспомнить, какой простор для вымысла открывали в литературе XVI в. оппозиционные представления о Новом Свете как об «аде» или «рае», об индейцах как о «бестиях» или как о «людях».
Это взаимодействие модернизированного и мифологизированного начал, оппозиционных систем детерминации – рациональной и иррациональной – в сознании, в «культурном воображаемом», в «культурном бессознательном» формирующейся латиноамериканской традиции станет имманентным качеством художественного мировидения. Не случайно в XX в. прославивший Латинскую Америку «новый роман» возник как система «сотрудничества» реалистического и фантастического, в которой магическое предстает как реальное, а реальное как небывалое. Соединение этих полярных начал являет миру «фантастическую действительность» (Г. Гарсиа Маркес) как наиболее «достоверный» и «подлинно правдивый» образ Нового Света.
Письма Христофора Колумба и «новый роман» разделяют почти пятьсот лет, но литература XX в., соединив концы и начала, сблизила их вплотную.
К. Д. Бальмонт и поэзия индейцев
И Мексика возникла, виденье вдохновенное…
Если традицию перевода поэзии индейцев на русский язык не назовешь сложившейся, то, безусловно, ее можно назвать давней. С того времени, как русский читатель впервые смог познакомиться с высокими образцами поэтического искусства коренных жителей Америки, прошло уже почти сто лет. В 1877 г. профессиональный поэт-переводчик Ф. Б. Миллер, переводивший с немецкого, английского и польского языков, предложил читателям «Русского вестника» перевод полного текста известного памятника кечуанской литературы – драмы «Апу Ольянтай»[292]. Во второй половине 1910-х годов поэзия кечуа привлекла внимание пользовавшегося тогда огромной популярностью поэта Константина Дмитриевича Бальмонта. Он перевел вошедшие в текст драмы «Апу Ольянтай» два замечательных образца народной лирической поэзии – «Туйя» и «Две птички»[293], а также один из наиболее древних мифопоэтических образцов, фигурирующий обычно под названием «Прекрасная принцесса» (у Бальмонта – «Владычица влаги») и сохранившийся до наших дней благодаря перуанскому историку Инке Гарсиласо де ла Веге (1539–1616), который включил его в текст своей «Истории государства инков»[294]. Эти переводы (как и вольные импровизации Бальмонта на кечуанские темы) вошли в книгу «Зовы древности»[295] в ее латиноамериканском цикле, состоявшем из трех разделов – «Мексика», «Майя», «Перу». Наиболее богат по составу мексиканский раздел, включивший в себя, очевидно, первые в истории русской литературы переводы поэзии ацтеков. Причем если кечуанскую поэзию Бальмонт переводил, используя скорее всего (как и Миллер) такой далекий язык-посредник, как немецкий[296], то для переводов поэзии ацтеков он имел возможность воспользоваться куда более близким к истории древних обитателей Мексики языком – испанским. Кроме того, работа эта была результатом непосредственного знакомства Бальмонта с культурой ацтеков.
Впечатления его от поездки в Мексику, где Бальмонт побывал в 1905 г., были очень яркими и глубокими, и отзвуки ее «кругами» расходились по творчеству поэта в течение почти двух последующих десятилетий.
Как Мексика оказалась в поле внимания Бальмонта? И что привлекло его в этой стране? Прежде всего, жадный, неуемный интерес ко всем великим цивилизациям древности, ко всему культурному достоянию человечества. Само перечисление в подзаголовке «Зовов древности» стран и народов, привлекавших внимание Бальмонта, показывает диапазон его интересов. Во многих из этих районов земного шара он побывал, правда, уже после выхода книги.
В своем живом интересе к мировым культурам Бальмонт типичен для поколения русских поэтов начала XX в. Каждый из них – и Александр Блок, и Валерий Брюсов, и Вячеслав Иванов – по-своему раскрыл, если использовать слово и сокровенную идею Достоевского, «всечеловечность» русской культуры, ее исконную открытость. Но широтой интересов Бальмонт, возможно, даже превосходит всех своих современников. Знавший более полутора десятка языков, Бальмонт переводил грузинских, армянских, английских, американских, французских, бельгийских, немецких, итальянских, польских поэтов. Оставляя пока в стороне неизменно возникающий, когда речь заходит о Бальмонте-переводчике, вопрос о результатах его многочисленных «экскурсий» в мировую поэзию, как и об особой окраске его «всемирности», замечу, что слова о «гуманистическом ощущении единства всей человеческой культуры»[297], сказанные С. С. Аверинцевым о Вяч. Иванове, в полной мере относятся и к Бальмонту.
К поездке в Мексику поэт был подготовлен знанием испанской классической и народной поэзии и непосредственным знакомством с испаноязычным миром во время путешествия по Испании, где он побывал до поездки в Латинскую Америку. Во время путешествий Бальмонт не ограничивался непосредственными впечатлениями. Поэт, как заметил Вл. Орлов, – «был неутомимым тружеником. Больше всего в жизни он любил и ценил ученые занятия»[298]. Всюду, где он останавливался, его окружали груды книг на самые разнообразные темы, и вскоре он уже владел местным языком. Та же картина наблюдалась и в Мехико, куда Бальмонт приехал из Парижа, сделав короткую остановку в Гаване. Его главной целью было посещение древних памятников. Прежде чем отправиться в поездку, он штудировал специальную литературу. В «Змеиных цветах» (1910), где опубликованы его лирические заметки о Мексике, он пишет, что библиотеки посещает «неукоснительно… два раза в день»[299]. И далее: «Я читаю быстро, слишком много»[300], не без удовлетворения замечая, что его, заваленного книгами и, как всегда, экстравагантного и в манерах, и в разговоре, принимают, кажется, за сумасшедшего. «Стихийный гений» и нестрашный «демон» мелькает то в Национальной библиотеке, то в Национальном музее, говорит на всех языках, листает цветные «кодексы» ацтеков, консультируется у знатоков.
Серьезные намерения часто выступали у Бальмонта в наивно-драматизированной оболочке, но это не умаляет серьезности результатов. И слова И. Эренбурга, в которых концентрированно выражено типичное, традиционное представление о Бальмонте: «переплыв все моря и пройдя все дороги, он ничего в мире не заметил, кроме своей души»[301], вряд ли в полной мере справедливы, хотя отчасти и объясняют то, как он жил в Мексике.