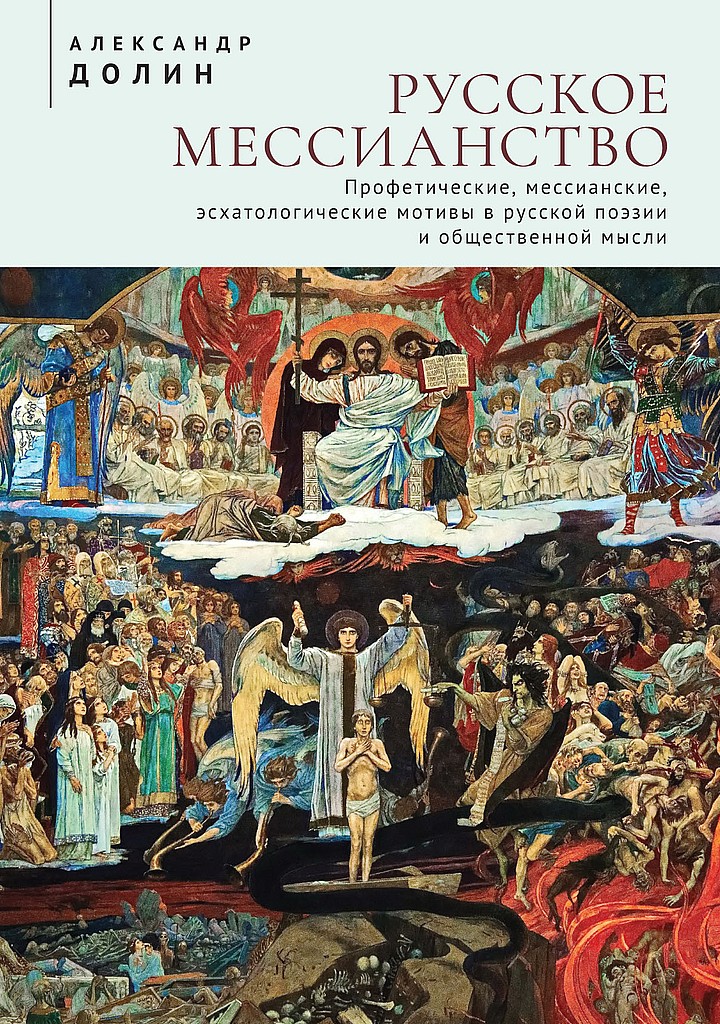примеривает на себя тогу апостола новой веры — пока еще не вполне ясной, но в любом случае экстремально революционной, отрицающей все прочие:
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
(«Облако в штанах», 1914–1915)
Соизмеряя свое ego с космическими метаморфозами, свои дела — с божественным промыслом, поэт в кощунственном атеистическом запале бросает вызов христианскому богу, освобождается от оков канонической церкви, от ее моральных заповедей и суровых ограничений:
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Но богоборчество Маяковского в действительности не означало отхода от веры в полном смысле слова. Оно означало лишь отход от старой веры и напряженные поиски иной, а позже — переход в обретенную новую веру — то есть смену конфессии. Свое кредо поэт сформулировал в апреле 1917 г.:
— Верую
величию сердца человечьего! —
Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!
(«Революция»)
Великая ересь социалистов, вскоре оформившаяся в господствующую марксистско-ленинскую доктрину, должна была, в представлении Маяковского, стать новой религией масс. Как писал сам поэт, для него не было вопроса «принимать или не принимать» Октябрьский переворот. Свое призвание он видел в служении революции, марксизму, большевикам — и тем самым, разумеется, народу. Именно этот шаг — принятие новой веры — и можно рассматривать как движущую силу всего последующего творчества поэта в революционный и постреволюционный период. И дело было, очевидно, вовсе не в том, что Маяковский с подросткового возраста состоял в рядах РСДРП. Скорее всего, если бы к власти в России пришли эсеры, он не задумываясь стал бы работать с ними. Талант Маяковского с самого начала был ориентирован на социальную проблематику. Поэт ощущал себя рупором народных масс, пророком великих перемен — но пророк не может существовать вне контакта с высшими силами. Залог его «боговдохновенности» в постижении сакрального. Профетическая поэзия по природе своей религиозна, хотя это не означает непременной принадлежности творца к одной из ведущих конфессий. Для Маяковского и некоторых его собратьев-футуристов оплотом веры стала религия революции, вульгаризированный марксизм в ленинской трактовке. Таким образом, жизнь и творчество Маяковского в послереволюционный период можно рассматривать как типичный пример религиозного подвижничества.
Тема эта, бесспорно, заслуживает отдельного, быть может, монографического исследования, но основное очевидно уже сейчас. Поэт не мог существовать в пустоте, в нигилистическом вакууме. Его ранние стихи действительно были тотальным отрицанием ценностей буржуазного мира, из чего следует, что он должен был восторженно принять любой политический переворот, провозглашающий столь же решительные лозунги. Отношение Маяковского к революции — это отношение теурга к сакральному акту творения нового мира. Его отношение к вождю революции, если считать, что поэт не кривит душой, это отношение жреца к верховному божеству:
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.
Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.
(«Владимир Ильич!», 1920)
Итак, Маяковский воспринял большевистский марксизм как новую религию, а революцию — как наступление новой эры, освященной новой религией, как начало осуществления великого утопического проекта, «социалистической ереси», и как уникальную возможность утверждения нового искусства, новой культовой поэзии. Собственно, такая позиция была не оригинальна — ее разделяли в то время миллионы. Место Бога-отца в массовом сознании занял Маркс, место Бога-сына, снизошедшего на Русь мессии — Ленин, место Святого Духа — коммунизм. К. Юнг философски резюмировал через несколько лет после Октябрьской революции: «Древние религии с их возвышенными и смешными, добрыми и жестокими символами ведь не с неба упали, а возникли из той же человеческой души, которая живет в нас и сейчас. Все эти вещи в их праформах живут в нас и в любое время могут с разрушительной силой на нас обрушиться — в виде массовых суггестий, против которых беззащитен отдельный человек. Наши страшные боги сменили лишь имена — теперь они рифмуются на „-изм“. Или, может быть, кто-то осмелится утверждать, будто мировая война или большевизм были остроумным изобретением?» ( ‹230>, с. 402).
Фанатически веровали в коммунизм, при всей его утопичности, и многие другие интеллектуалы — как в России, так и за ее пределами. Специфика Маяковского в том, что он ощущал себя не просто прозелитом, но апостолом новой веры и действовал в полном соответствии с предписанными апостолу обязанностями. Не вникая в догмы марксизма-ленинизма, он принял это утопическое учение как целое, как единственную альтернативу всем прочим учениям, удаленным от реальности, как руководство к прямому действию. Сказав «моя революция», он далее относился к самой революции, идеям ее вождей, действиям ее героев (или злодеев) с чисто сакральным пиететом. Свою миссию он видел в воспевании революции и, главное, в пропаганде ее идей и лозунгов всеми доступными средствами. Он ощущал себя, носителя редкостного поэтического дара, Андреем Первозванным, призванным служить революции, «глаголом жечь сердца людей». В действительности же революция его не звала, Ленин и большинство других революционных лидеров терпеть не могли его стихи, а пролетарские поэты объявили его сомнительным «попутчиком», и от этого ярлыка поэт не мог избавиться до самой смерти. Тем не менее Маяковский, претерпевая холод и голод, ненависть врагов, отчуждение бывших друзей и презрение бездарных коллег, упорно и самоотверженно вел свою апостольскую проповедь, наставляя в «истинной вере» толпы соотечественников.
Все это Маяковский делал абсолютно сознательно, ощущая себя творцом канона новой веры, а в том, что такой канон необходим, у него не было ни малейшего сомнения, хотя в теоретических работах он, разумеется, не мог формулировать так свою мотивацию. В стихах же она проскальзывает:
Большевики
надругались над верой православной.
В храмах-клубах —
словесные бои.
Колокола без языков —
немые словно.
По божьим престолам
похабничают воробьи.
Без веры
и нравственность ищем напрасно….
(«Богомольное», 1926)
Свое апостолькое служение Маяковский трактовал вполне серьезно. Он считал своим долгом не только отстаивать ленинизм в полемике с его противниками, но и