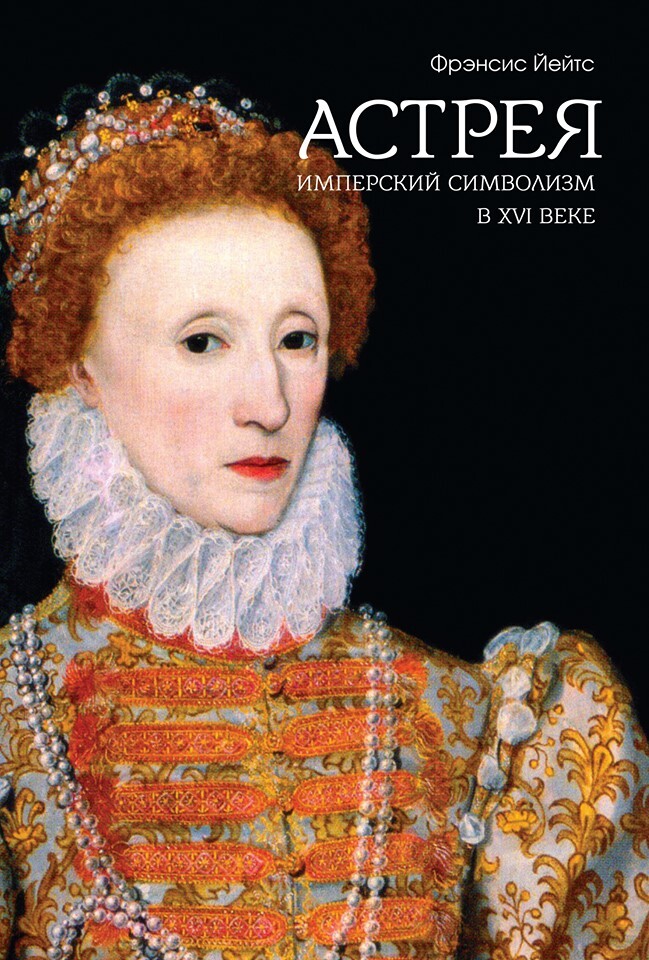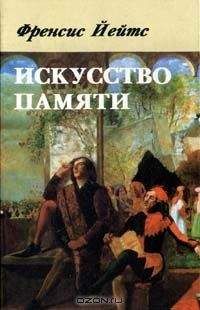class="p1">Затем следует изложение его «новой философии», перемежаемое сбивчивым рассказом о пути на ужин и споре с «педантами» о Солнце. Предваряющее всю эту историю обращение к Мнемозине, богине «Печатей» и «Теней», как будто подтверждает мою догадку. Если кто пожелает узнать, какого рода риторика произросла из оккультной памяти, пусть прочтет
Cena de le ceneri.
Эта магическая риторика имела одно немаловажное следствие. Легенда о Бруно как мученике новой науки и коперниканской теории, прорвавшемся в XIX столетие сквозь путы средневекового аристотелизма, покоится главным образом на риторических пассажах Cena, где речь идет о коперниканском Солнце и о герметическом восхождении сквозь сферы.
Cena de le ceneri – пример того, как процедуры искусства памяти развиваются в литературное произведение. Ведь Cena – это, конечно же, не система памяти; это ряд диалогов с участием живо и ярко охарактеризованных собеседников: философа, педантов и т. д., где рассказывается, какую роль все эти люди сыграли в истории с прогулкой на ужин и с тем, что произошло, когда они добрались до цели. Здесь есть и сатира, и комические приключения. Кроме того, присутствует и драма. Еще в Париже Бруно написал комедию Candelaio («Подсвечник», 1582), и в ней заметен немалый драматический талант, созревший уже во время его пребывания в Англии. Поэтому в Cena мы наблюдаем, каким образом искусство памяти могло превращаться в литературу; как улицы с их памятными местами населялись персонажами и становились декорациями драматического представления. Влияние искусства памяти на литературу до сих пор остается практически неисследованным. А Cena представляет собой пример произведения изобразительной литературы, связь которого с искусством памяти несомненна.
Еще одна интересная особенность – использование аллегорий в этих мнемонических декорациях. Совершая свой путь по местам памяти к мистической цели, ищущие ее встречаются с различными препятствиями. Желая сберечь время, они нанимают старую скрипучую лодку, но это отбрасывает их туда, откуда они вышли, и, что еще хуже, они оказываются в грязном темном переулке с высокими глухими стенами. Вернувшись на Стрэнд, они с большим трудом пробираются к Чаринг-Кросс, где попадают под удары и ругань толпы бесчувственных, звероподобных людей. Когда они прибывают наконец на ужин, их ожидает множество формальностей из‐за того, как рассесться. И педанты: они начинают препираться из‐за Солнца или все-таки из‐за ужина? В Cena есть что-то, напоминающее невнятные, бесплодные усилия людей в мире Кафки, и это один из уровней, на котором могут прочитываться диалоги. Однако подобные параллели с современностью могут увести нас в сторону. Ибо в Cena мы погружаемся в эпоху итальянского Ренессанса, где люди с легкостью впадают в состояние любовной лиричности от стихов Ариосто, а места памяти – это уголки елизаветинского Лондона, где обитают рыцарственные поэты, один из которых здесь, по всей видимости, председательствует в весьма загадочном собрании.
Одно из прочтений этой аллегории в декорациях, состоящих из мест оккультной памяти, могло бы быть таким: лодка, этот старый, обветшавший Ноев ковчег, символизирует Церковь, заточающую паломника в надоевших ему монастырских стенах, откуда он бежит, ощутив возложенную на него героическую миссию, – но лишь для того, чтобы убедиться, что протестанты с их трапезой причастия даже еще более слепы к лучам возвращающегося Солнца магической религии.
Вспыльчивый маг выказывает в этой книге свое раздражение. Он недоволен не только «педантами», но и тем, как с ним обращается Гревилл, хотя о Сидни отзывается только как о славном и образованном вельможе, «о котором я слышал много лестного в Милане и во Франции, а в этой стране имел честь познакомиться с ним лично» 753.
Книга вызвала бурю негодования, вынудившую Бруно отсиживаться в здании посольства под защитой посланника 754. И в том же году его ученик Диксоно ввязался в драку с рамистами. Что за сенсации в местах памяти елизаветинского Лондона! Пусть в то время настоящие черные братья уже не бродили по Лондону, создавая в нем места памяти, чтобы с их помощью запоминать Summa Фомы Аквинского, как это делал фра Агостино во Флоренции 755, зато бывший монах, еретик, применил античную технику в своей более чем странной оккультно-ренессансной версии искусства памяти.
Заканчивается Cena изощренными мифологическими проклятиями в адрес критиков книги: «Ко всем вам обращаюсь я, заклиная одних щитом и копьем Минервы, других – благородным потомством Троянского коня, третьих – почтенной бородой Асклепия, четвертых – трезубцем Нептуна, пятых – копытами лошадей, растоптавших Главка, и прошу вас всех впредь вести себя так, чтоб мы смогли либо написать о вас диалоги получше, либо сохранить наше перемирие» 756. Те, кто был посвящен в тайны некоторых мифологических печатей памяти, могли догадаться, о чем здесь идет речь.
Посвящая Филипу Сидни свой труд De gli eroici furori (1585), Бруно заявляет, что любовная поэзия этой книги адресована не женщине, а выражает героический энтузиазм, обращенный к религии созерцания природы. Структуру сочинения образует последовательность эмблем, числом около пятидесяти, которые описываются в стихах и обсуждаются в комментариях к этим стихам. Образы, по большей части, – причудливые метафоры в духе Петрарки про очи и звезды, про стрелы Купидона 757 и т. п. или же щиты с impresae и девизами под ними. Образы эти обильно насыщены эмоциями. По многим пассажам в трактатах о памяти уже знакомые с тем, что образы магической памяти должны быть заряжены аффектами и, в частности, любовным аффектом, мы начинаем видеть любовные эмблемы из Eroici furori в новом контексте – конечно, не как некую систему памяти, но как следы, оставленные методами запоминания в литературном произведении. Когда же, ближе к концу книги, этот ряд приводит нас к образу чародейки Цирцеи, мы уж точно чувствуем, что окружены привычными структурами бруновской мысли.
Здесь можно задать вопрос: рассматривались ли в устойчивой традиции, что связывала Петрарку с памятью, эти причудливые метафоры еще и как образы памяти? Ведь именно такие метафоры содержат в себе «интенции» души, направленные на объект. Во всяком случае, Бруно использует причудливые художественные образы с сильными интенциями как имагинативное и магическое средство для достижения озарения. На связь этой литании любовных образов с «Печатями» указывает и упоминание о «приобретениях» – религиозных переживаниях, описанных в «Печати Печатей» 758.
В этой книге философ изображен как поэт, изливающий образы своей памяти в поэтической форме. В стихах часто встречаются строки об Актеоне, гнавшемся по следам божественного в природе, пока сам не был загнан и растерзан своими же псами: здесь выражено мистическое слияние субъекта с объектом и дикая необузданность погони за божественным объектом среди лесов и вод созерцания. Здесь же нам является